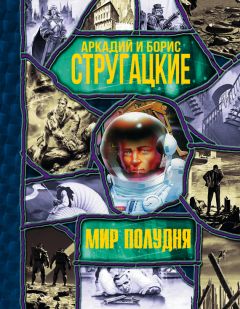– Хотите сказать, этим занимается его дочь.
Мистер Гилвелл изумленно взглянул на него, да только хмыкнул.
– Хочу сказать, что она следит за этим, и все.
– То есть мисс Шалстоун делает за отца всю его работу?
– Да нет, не всю. – Он машинально почесал шрам на руке. – Он проповеди читает, и хорошие проповеди, без всех этих страстей про геенну огненную. А еще – крестит, венчает и все такое.
– Но все, что должен делать именно он, делает его дочь.
Мистер Гилвелл заерзал на стуле.
– Да ничего такого я не говорил. До смерти жены викарий и проповедовал, и советы добрые давал – насчет души, и невест готовил к венчанию… Но сам-то он все не успевал, его жена о бедных заботилась, женщинам помогала… У них вдвоем здорово получалось. Потом она умерла. А он… он вроде как не в себе стал, понимаете?
Этого Себастьян понять не мог.
– Не в себе? Он что, с ума сошел?
– Не сошел он с ума. Просто он не всегда справляется со своими обязанностями. Горе его сломило, он прямо на себя перестал быть похож. А сейчас…
– Сейчас он пьет, – сказал Себастьян.
– Я этого не говорил!
– Нет. Но то, что у этого человека проблемы со спиртным, совершенно ясно. Стоило мне его увидеть, я сразу догадался.
Хозяин гостиницы весь напрягся.
– Прошу прощения, но вы бы лучше об этом не говорили. Человек никак от горя не оправится, и мы – мы жалеем его. Работа-то все равно дела-ется.
– То есть вы его покрываете, а дела – на его дочери.
– Работа-то делается, – упрямо повторил мистер Гилвелл.
Себастьян вздохнул. На свой вопрос он так и не получил ответа. Что с викарием – страдает ли он от безутешного горя или просто стал беспробудным пьяницей? И выдержит ли он, черт подери, по-ездку?
И Себастьян решил зайти с другой стороны. – А что дочь викария?
Мистер Гилвелл откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди.
– Вы про Корделию?
Корделия? Ах да, кажется, так ее зовут. Подходящее имя, хотя Шекспир, возможно, представлял себе существо более покладистое, когда писал своего «Короля Лира».
– Да. Расскажите, пожалуйста, про мисс Шалстоун.
– Я уже говорил вам – она делает то, чего викарий делать не может.
– Это-то ясно. – Он вспомнил, как она предпочла не отвечать на его вопрос о том, пишет ли она за отца проповеди. – Почему она живет с ним? Она ведь могла бы замуж выйти. Разве у нее нет поклонников? Мне показалось, что она достаточно привлекательна. – Более чем, добавил он про себя.
– Да, здесь есть некоторые трудности. Поклонники-то у нее были, и люди все приличные. Но она всем отказала. Говорит, что не может оставить отца.
Это многое объясняет, подумал Себастьян. И почему она музыкой балуется, и почему отца защищает, и отчего у нее такой странный испуганный взгляд… И он вспомнил, что и у его матери за несколько месяцев перед смертью был точно такой же взгляд. Она-то жила с кутилой и мотом.
Он только головой тряхнул. Каков викарий! Разве такое возможно? С дворянами подобное случается, но со священником! Отец Себастьяна, к примеру, был только одним из многих славных представителей рода, разбазаривавших семейное достояние. Привело это к тому, что Себастьяну пришлось отцовские владения на Востоке превратить в торговую компанию, что и позволило ему мало-помалу выплачивать долги покойного родителя.
Печально, что все это сейчас без присмотра, да так и останется, пока Себастьян не разрешит проблему с Ричардом. А этого не сделать, не разобравшись с викарием, который явно спивается с горя.
А может, не стоит торопиться с выводами? Слишком мало у него доказательств. Но тут Себастьян вспомнил, в какое отчаяние впал преподобный Шалстоун, когда не обнаружил своей «микстуры». Нет, кажется, он верно представляет себе ситуацию. Может, прихожане и продолжают считать, что викарий болен, но Себастьян видел, что перед ним горький пьяница.
А викарий был нужен Себастьяну, причем трезвый викарий, которого можно представить Ричарду и Генделю.
Следующим утром Себастьян отправился в крохотную белхамскую церковь. Он торопился поскорее все закончить и отправиться в обратный путь. Карета, следовавшая за ним из Лондона (сам-то он ехал верхом, чтобы не терять времени), должна была прибыть не позднее завтрашнего дня, и он хотел сразу же возвращаться в Лондон. Надо было до разговора с викарием высидеть нескончаемую службу, но Себастьян был исполнен решимости делать все необходимое.
Когда он вошел в церковь, его тотчас проводили на почетное место в передних рядах. Очевидно, это были места для семейства викария, но сидели там только та свирепая старуха, которую он видел вчера, и еще одна служанка.
Усевшись, он тут же заметил Корделию, шептавшуюся о чем-то с регентом, собиравшимся уже подняться на хоры. Себастьян усмехнулся, заметив, как она выразительно жестикулирует. Кажется, она размахивает руками всегда, когда хочет что-то объснить.
Она выглядела совсем иначе, чем вчера. В желтом шелковом платье с вырезом, прикрытым легкой косынкой, она была настоящей леди. Голова у нее была покрыта – на сей раз на ней был дневной чепец под соломенной шляпкой.
Что за глупости, ну почему ему интересно, какие у нее волосы? Цвет он знал – темно-пепельный изумительного оттенка. Но какая у нее прическа? Тугие девичьи локоны, столь модные нынче при дворе, или она носит длинные волосы, стянутые на затылке в узел, и распускает их по вечерам?
При мысли о том, как волна волос струится по ее спине, он вдруг напрягся, появилось странное ощущение в животе и чуть ниже. Нет, нельзя так расслабляться!
Он стыдил себя за несдержанность и за столь пристальный интерес к дочке викария, и в этот самый момент она обернулась и взглянула на него.
С удивлением и некоторым удовольствием он заметил, как она покраснела и склонила голову. Он с трудом сдержал улыбку. Неужели она догадалась, о чем он думал? Черт возьми, эта женщина, кажется, на все способна. Вдруг она и мысли умеет читать?
Она подошла к скамье с другой стороны и села за служанками, так что он не мог видеть ее, не наклоняясь вперед. Жаль, конечно. Если бы она села рядом, это скрасило бы нудную службу.
Он постарался усесться на жесткой скамье поудобнее и стал разглядывать церковь, расцвеченную лучами солнца, проникавшими внутрь сквозь витражи. Много лет, со дня похорон матери, не бывал он в церкви.
Себастьян был тогда совсем ребенком, но и в восемь лет он чувствовал всю невосполнимость утраты, боль от которой осталась на всю жизнь. Он помнил мать, помнил ее нежное лицо, помнил, как она ласково гладила его по голове, помнил, как мило улыбалась всякий раз, когда отец входил в дом, улыбалась, даже если он был мертвецки пьян.