— А ты — вероломная девчонка! — крикнула она. — Ты должна быть мне верным другом и оставаться другом, что бы ни случилось и чего бы ты от меня ни услышала. Я тебя в Тауэр не звала. Ты сама пришла. Значит, ты должна служить мне, а не ей. И я не говорю о ней ничего, кроме правды. Мне в ее возрасте было бы совестно волочиться за молодыми мужчинами. Я бы лучше умерла, чем завлекать того, кто годится мне в сыновья. Уж лучше сгнить здесь, чем дожить до ее возраста и остаться никому не нужной старой девой, ни на что не годной, бесполезной во всех отношениях.
— Напрасно вы называете меня вероломной, — сказала я. — Я ваша компаньонка. Королева не просила меня быть вашей шутихой. Я хочу быть вам другом, но я не могу слышать, как вы изъясняетесь лексиконом рыбной торговки из Биллингсгейта.
Елизавета застонала и повалилась на землю. Ее лицо стало белым, как цветки яблони, волосы разметались по плечам, а руки сомкнулись возле рта.
Я села рядом и взяла ее за руки. Они были совсем холодными. Я боялась, что с Елизаветой случится обморок.
— Ваше высочество, успокойтесь, прошу вас. Вы не в силах помешать браку королевы.
— Даже не пригласить меня…
Она всхлипнула.
— Понимаю, для вас это тяжело. Но ведь королева явила вам свое милосердие. Вспомните, принц Филипп желал, чтобы вас обезглавили.
— И что, я должна ей за это ноги целовать?
— В вашем положении лучше всего успокоиться. И ждать.
Ее лицо вдруг стало ледяным.
— Если она родит сына, мне будет уже нечего ждать. Разве что меня принудят выйти замуж за какого-нибудь никчемного католического принца.
— А в Тауэре вы мне говорили: день, в который вам удалось остаться живой, — это победа, — напомнила я.
Елизавета даже не улыбнулась. Она покачала головой.
— Остаться живой — не главное. И никогда не было главным. Я сохраняла жизнь ради Англии. Оставалась живой английской принцессой. Сохраняла жизнь ради наследования трона.
Я не стала возражать. Сейчас она верила в то, что говорит. Но я-то знала: Елизавета не может жить исключительно ради своей страны. Любое мое неосторожное слово могло вызвать новый всплеск ее гнева.
— В таком случае оставайтесь живой ради Англии, — сказала я, пытаясь ее успокоить. — Ждите вашего часа.
На следующий день принцесса позволила мне уехать. Она ничуть не успокоилась и по-прежнему вела себя, как ребенок, которого не взяли на праздник. Я не понимала, что огорчало ее сильнее: участь единственной протестантской принцессы в католической Англии или то, что ее обошли приглашением на событие, которое по своему размаху могло сравниться с «Полем золотой парчи».[7] Принцесса простилась со мной молча, едва кивнув головой. Судя по ее насупленному лицу, ее действительно удручало, что празднество состоится без нее.
Если бы люди сэра Генри не знали дороги в Винчестер, мы бы легко нашли ее по толпам пеших и конных, стекавшихся туда. Казалось, все англичане от мала до велика стремились увидеть, как их королева наконец-то выходит замуж. Разумеется, такое зрелище обещало быть не только пиршеством для глаз, но и сулило доходы от торговли. Поэтому крестьяне везли на этот громадный открытый рынок все, что можно было продать. Туда же стекались торговцы лечебными снадобьями и всевозможными диковинами. Заработать надеялись не только они, но и великое множество разных фигляров, канатных плясунов, фокусников и, конечно же, шлюх. Топот ног, лошадиное ржанье, свист хлыстов, смех, крики, ругань — все это мы услышали задолго до того, как очутились в людской гуще.
Но раньше простолюдинов к Винчестеру спешили придворные и знать. Все были пышно разодеты. Повсюду мелькали разноцветные ливреи слуг и мундиры солдат. Вдоль дороги и по окрестным полям взад-вперед носились гонцы с посланиями. Кто-то опоздал и теперь усиленно проталкивался сквозь людские толпы, требуя освободить дорогу.
Люди сэра Генри торопились представить государственному совету отчеты хозяина о Елизавете. Я рассталась с ними у входа во дворец Вулвси. Так назывался вместительный дом епископа, где остановилась королева. Я отправилась прямо в ее покои. Оказалось, что в помещениях дворца ничуть не менее людно, чем на дороге. Здесь точно так же толкались, пихались и переругивались друг с другом многочисленные просители. Каждый надеялся, что королева непременно удовлетворит его прошение. Я ныряла под локтями, протискивалась между плечами и даже между ногами толстых, вспотевших сквайров. Наконец я достигла входа в покои королевы. Там стояли стражники со скрещенными алебардами.
— Я — Ханна, шутиха королевы, — представилась я им.
Один из стражников меня узнал. Они чуть приоткрыли двери, и я проскользнула в щель, которая тут же закрылась. Но и приемная не пустовала. Здесь собрался люд познатнее и побогаче, одетый в шелка и выделанную кожу, украшенную вышивкой. Кроме английской речи, слышалась французская и, конечно же, испанская. Честолюбивые мужчины и женщины надеялись занять выгодное место при новом дворе. Вокруг только и говорили, что король (Филиппа почему-то уже называли королем) создаст свой двор, и тот будет состоять из родовитых англичан и сотен испанцев, которых Филипп привез в качестве своей свиты.
Я прошлась по периметру зала, ловя обрывки разговоров. В основном это были слухи и домыслы. Все охотно болтали о том, как нелегко придется бедняге-принцу, когда он окажется в одной постели со стареющей королевой. Эти разговоры не вызывали у меня ничего, кроме отвращения, и к тому времени, когда я подошла к дверям собственно королевских покоев, мое щеки пылали, а зубы скрежетали сами собой.
Стражник у дверей узнал меня и пропустил. Удивительно, но даже в покоях королевы покоя не было. Зато там было полно фрейлин, служанок, посыльных, певцов, музыкантов и других людей, чей род занятий я не могла определить. Я озиралась в поисках королевы, но нигде ее не видела. У окна с шитьем сидела Джейн Дормер, совершенно равнодушная к происходящему вокруг. Джейн была такой же, какой я увидела ее год назад, в глуши провинциального дома, где тогда жила Мария.
— Я приехала по велению королевы, — сказала я, слегка поклонившись Джейн.
— Не ты одна, — угрюмо отозвалась она.
— Я видела. Скажите, так продолжается с самого дня вашего приезда из Лондона? — спросила я.
— Что ни день, то народу все больше. Они думают, будто королева размягчилась сердцем и головой. Да если бы она трижды раздала все королевство, она бы и тогда не удовлетворила всех их прошений.
— Можно мне войти? — спросила я.
— Она сейчас молится. Но она будет рада тебя видеть.
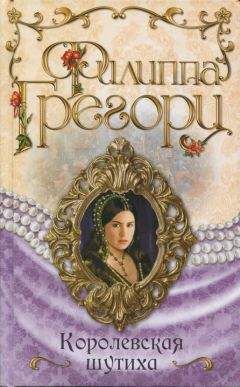
![Натализа Кофф - Воровка, или Противоположности притягиваются[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/11549/11549.jpg)


