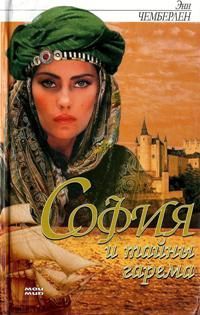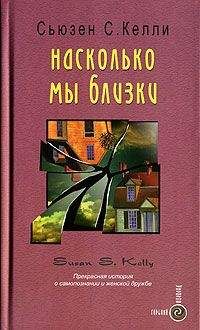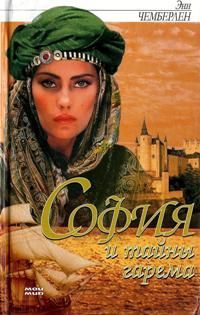– Нет, – заикаясь, пробормотал я. Голова у меня кружилась, перед глазами все плыло. – Нет! – выкрикнул я, и вопль мой перекрыл монотонный гул голосов, повторяющих имена Пророка.
Хватая воздух широко раскрытым ртом, я на подгибающихся ногах пробрался к двери и выпал наружу.
Там я с наслаждением вдохнул полной грудью чистый прохладный воздух. Чувствуя, как в голове у меня немного проясняется, я поднял голову к небу. Оно было усеяно яркой россыпью звезд. И тогда звезды вдруг превратились в глаза Хусейна, смотревшие на меня словно сквозь бескрайние просторы Вселенной, и сон, который я впервые увидел в чайхане Баба Ахлям, повторился снова. Старый дервиш лишился своей седины, разом став моложе, кости его обросли плотью, только на этот раз к моему сну добавилось еще одно видение. В этот раз я увидел Хусейна таким, каким я оставил его на базаре пять лет назад, когда боль и стыд, сжигавшие меня, еще не успели стать для меня привычной мукой, и я, обезумевший, был глух и слеп ко всему остальному.
И вот теперь я видел собственными глазами, как мой старый друг печально смотрит мне вслед, разом постарев и ссутулившись, словно вина за то, что случилось со мной, тяжким грузом легла ему на плечи. Я впервые почувствовал, что он любит меня как сына, и страдает из-за меня так же, как если бы я был его собственной плотью и кровью, и мучается, потому что считает, что должен был уберечь меня от опасности и не смог этого сделать. Ужасное чувство вины день и ночь терзало его душу, разъедало его, словно кислота, пока, утратив свое обычное добродушие и мягкий юмор, свою неиссякаемую любовь к жизни, он не почувствовал, что постепенно сходит с ума. Ему удалось отыскать свою семью – тестя, жену, маленького сына. Он узнал, что очень скоро на свет должен появиться еще один его ребенок, но это не принесло успокоения его душе. Их любовь не успокоила его мучения, она – словно соль на раны, те самые раны, что оставила в его душе моя ужасная судьба.
Опасаясь за свой рассудок, Хусейн, наконец, решает отомстить. Но что он может сделать? Поймать изуродовавшего меня мясника, разоблачить перед всеми его преступление, заставить предстать перед законом его страны? Нет, этого мало. Он должен убедиться, что негодяй, навеки превративший меня в калеку, больше уже никогда не сможет изуродовать чью-то жизнь, как он искалечил мою – ни в Пера, ни в любом другом месте на земле. Нет, он накажет его собственной рукой, решает Хусейн. Горе и гнев придают ему силы. И вот как-то ночью, закутавшись в плащ, под покровом темноты, он находит работорговца Салах уд-Дина и пронзает его сердце кинжалом.
Но и этого ему мало. Лишив мерзавца жизни, Хусейн лишает его и мужского достоинства. Я знал это с самого начала. Я помог ему обмыть тело, я видел это собственными глазами.
Какое злобное торжество переполняло меня, когда я видел, как ненавистное мне тело корчится от мучительной боли – словно бумажный свиток, когда его кинут в огонь! Но, увы, мне так и не удалось утолить свою месть: проклятый Салах уд-Дин умер слишком быстро, не успев испытать ни особой боли, ни долгих, иссушающих душу угрызений совести. А зрелище его смерти, которую я наблюдал без сожалений, вместо того чтобы успокоить меня, дать возможность испытать сладость отмщения, заставило терзаться еще сильнее: теперь руки Хусейна обагрены кровью, и виноват в этом один лишь я. И не важно, что в моих глазах он был не убийцей, а палачом. Я знал, что ни одно общество в мире никогда не простит ему этого. Из-за меня Хусейн был обречен навеки стать изгоем.
Вот так и случилось, что он, скрыв свое настоящее имя, вступил в тайный орден дервишей. Вначале, правда, этот его шаг объяснялся всего лишь необходимостью скрыться на время, поскольку только дервиши могли свободно бродить по стране, не обращая на себя внимание и не вызывая подозрений. А что могло стать лучшим укрытием для дервиша, чем логово разбойников?
Увы, все оказалось далеко не так просто. Тайный смысл их обрядов медленно, но верно начал оказывать на него свое влияние. Только сейчас, в своем сне наяву, я увидел и почувствовал всю глубину его раскаяния. Я стал невольным свидетелем того, как Хусейн снова и снова перебирал в душе свои прошлые грехи, и не только убийство, потому что теперь он относил к ним и страсть к наживе, и жажду богатства, снедавшие его еще в те далекие времена, когда он был почтенным торговцем. Наконец, измучившись и не найдя другого выхода, он отправился в Мекку простым паломником, без гроша за душой, пешком и захватив только простую деревянную чашу для пожертвований. Это паломничество дало ему возможность принять другое имя. Теперь его звали Хаджи. Одна тысяча и один день приобщения к знаниям и таинствам, или «посвящения», в течение которых рубище, в которое он был одет, и простая чаша с коркой черствого хлеба внутри – вот сколько времени потребовалось для того, чтобы эти символы нищенства перестали казаться ему унизительными, незаметно явив миру истинную сущность Хусейна-Хаджи, того, кем ему теперь суждено было остаться до конца его дней.
Вот так встреча с Хусейном положила начало моим связям с суфиями, которые продолжались все лето. Но я не мог дать обет верности шейху ордена – отданный им приказ потребовал бы от меня невозможного, в то время как моя госпожа могла попросить меня к себе в любое время – реши она уехать из Коньи, я обязан был сопровождать ее. Многие из суфиев настаивали на том, что религиозность вовсе не помеха службе. Но, согласитесь, одно дело, когда ты простой торговец и, стало быть, можешь в любую минуту закрыть свою лавку, повесить на дверь замок и отправиться туда, куда зовет тебя твой религиозный долг; и совсем другое, когда между тобой и Аллахом стоит хозяин, которому ты обязан повиноваться.
– Когда-нибудь, – пообещал я своему старому другу.
– Да. Когда-нибудь, – мягко кивнул в ответ Хусейн. – Когда будет угодно Аллаху.
Миновал первый мусульманский год. К концу лета в стране постепенно воцарилось спокойствие.
Я постепенно начал находить удовольствие в том, чтобы проводить все свободное время на женской половине дворца, коротая вечера в беседах со своей госпожой. Зима в этом году наступила на удивление рано, выпал уже первый снег, уютно укутав Конью своим пуховым одеялом. А сидя в гареме, удобно устроившись возле жаровни, где жарко пылают угли, было особенно приятно любоваться в окно на свежевыпавший снег. Но не только это удерживало меня в гареме: дело в том, что наш хозяин нанял чтицу, и теперь она сидела, отделенная от нас занавесом. И хотя суфий был мой друг и его таланты не подвергались сомнению, я, скрепя сердце, все же вынужден был со временем признать, что ему до этой женщины далеко. Женщины, как я сам неоднократно имел случай убедиться, обладают какой-то врожденной склонностью к поэзии и далеко превосходят в этом нас, мужчин. Да, мужчины легче и чаще впадают в религиозный транс, но женщины… Для них область чувств – естественная среда, они вплетают их в стихи, словно разноцветные нити в ковер, свивая прихотливый узор, который долго еще будет радовать глаз его обладателя.