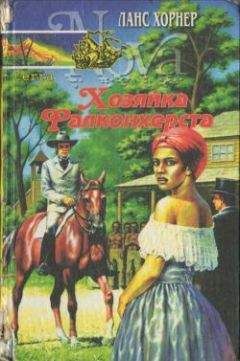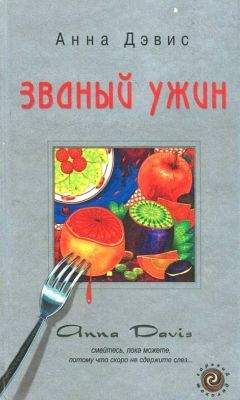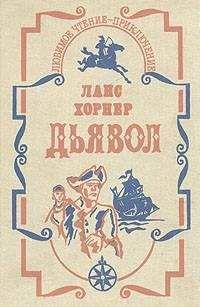Наверху раздался шум; ей страсть как хотелось взглянуть, что там происходит, однако она не двинулась с места, памятуя хозяйский наказ. До ее слуха долетели голоса Максвелла-старшего, Мема и еще кого-то из слуг. На лестнице раздались шаги; Максвелл призывал слуг не зевать. Не справившись с любопытством, она на цыпочках подкралась к двери столовой и увидела, как Мем и еще один негр, стащив Хаммонда вниз по лестнице, выносят его из дома на веранду и дальше вниз по ступенькам. Она как ни в чем не бывало вернулась на свой стул, с улыбкой прислушиваясь к голосу Уоррена Максвелла: он ни на минуту не оставлял слуг без поучений, проклятий и предупреждений, боясь, что иначе они повредят зажатую в лубок ногу сына.
Она улыбнулась, довольная улучшением состояния своего пациента, выразившимся в том, что его смогли поднять с постели. Высунуться на веранду и поглядеть, что творится там, она не посмела. Один урок она усвоила накрепко: хозяйским приказам следовало повиноваться беспрекословно. Раз он велел ей оставаться на кухне до десяти часов, значит, она не смела ослушаться.
На сей раз удары гонга не предвещали наказания, иначе ей не было бы велено получше одеться и приготовить для обитателей Большого дома праздничный обед. Она нажарила цыплят и испекла печенье, а также свой знаменитый кекс – излюбленное кондитерское изделие Хаммонда. Кроме того, под ее наблюдением приготовили огромный котел рагу – угощение для слуг. В рагу пошло мясо белок, поросят и вдобавок еще туша кем-то подстреленного опоссума. Этого кушанья, приправленного свиными рубцами, турнепсом и коровьим горохом, должно было хватить на всех.
Она так привыкла постоянно находиться в центре любых событий, что сейчас беспокойно ерзала, сгорая от нетерпения. Теперь до нее не доносилось иных звуков, кроме звяканья крышки на закипающем чайнике да биения о стекло здоровенной мухи, не желающей смириться с существованием непреодолимой преграды. То, что рядом творилось нечто, о чем она не имела ни малейшего представления и над чем, более того, не имела никакой власти, не давало ей покоя, как заноза в пятке. Ей очень хотелось узнать, по какому поводу разгорелся весь этот сыр-бор, зачем ее заставили приодеться, зачем лупили в гонг, с какой стати вынесли из дома Хаммонда. Да что там затевается, в конце-то концов?
Прошло, судя по ходикам, еще пятнадцать минут, прежде чем Максвелл поманил ее из двери.
– Ты готова, Лукреция Борджиа?
– Вот принарядилась, как вы мне велели, масса Максвелл, сэр. – Она встала и сделала перед ним книксен.
– Ну и хороша же ты, скажу я тебе! Великолепна! Платье миссис Максвелл очень тебе идет. Пойдем, Лукреция Борджиа. Нас ждут в конюшне.
Лукреция Борджиа пропустила хозяина вперед. Они вышли на веранду, откуда она увидела толпу чернокожих, собравшуюся у конюшни. Гонг смолк. Было очень похоже, что на конюшне готовится новое бичевание. Непонятно только, почему Мем расхаживает вокруг, а не стоит прикованным к столбу. Неужели наказание постигнет одного Омара? Пока что она не могла высмотреть его в толпе.
Она в полной тишине спустилась по ступенькам веранды, однако была сильно удивлена, когда толпа у конюшни встретила ее приветственными криками. Все наперебой повторяли ее имя:
– С добрым утром, Лукреция Борджиа!
– Как поживаете, Лукреция Борджиа?
– Рады снова видеть вас в добром здравии! Толпа расступилась, пропуская Максвелла, за которым она следовала теперь по пятам. Ей в глаза бросилась старая кушетка, набитая конским волосом, которую приволокли сюда из гостиной: на ней устроили Хаммонда, подперев ему спину подушками. Рядом покачивалось большое кресло, тоже из гостиной, а чуть позади – кресло Максвелла с плетеным сиденьем. Максвелл уселся в кресло-качалку, она же, повинуясь его жесту, опустилась в соседнее кресло. Она понимала, какая ей оказана невиданная честь: она уже дважды сиживала в присутствии хозяина, но только сейчас этот почет – сидеть при белых – был предоставлен ей на глазах у всех фалконхерстских невольников.
Максвелл встал и поднял руку, призывая всех к молчанию. Крики стихли, все взоры устремились на нее одну, она же от смущения занялась оборками своей необъятной юбки. Хаммонд взял ее за руку. Его улыбка свидетельствовала о том, что это прикосновение доставляет ему не меньше удовольствия, чем улыбающимся чернокожим вокруг.
Когда голоса стихли и воцарилась тишина, если не считать шороха босых ног в пыли, Максвелл откашлялся и заговорил:
– Рад видеть всех вас, работники и работницы Фалконхерста! Должен признаться, на таких ниггеров, как вы, одно удовольствие смотреть. Держу пари, что столь приятных на вид негров не найдется ни на какой другой плантации на всей Алабамской территории. К этому я и стремлюсь – к тому, чтобы мои негры выглядели молодцами. Я выращиваю вас и отправляю на аукцион, но вы – негры Фалконхерста, а это означает, что новые владельцы никогда не пошлют вас работать в поле. Нет, у вас другое назначение! С того момента, как любой из вас поднимется на аукционный помост в Новом Орлеане или Нашвилле, вас ждет развеселая жизнь. Все мужчины станут племенными неграми на хороших плантациях. Им не придется вкалывать в поле, потому что единственным их занятием будет день и ночь брюхатить девок. Ведь для фалконхерстского негра не важно, со сколькими он уже переспал: он всегда готов заняться следующей!
Он подождал, пока уляжется улюлюканье, и продолжал:
– А вы, негритянки, станете плодными самками: будете дарить своим новым хозяевам славных и сильных сосунков. Тяжкий труд на хлопковой плантации – не ваш удел. Вы станете гордостью своих владельцев. Хозяева станут говорить в компании друзей: «Взгляните на моего производителя! Разденься-ка, парень, пускай белые посмотрят, почему тебя называют чемпионом!» А когда речь зайдет о девках, они скажут: «Вы только посмотрите на эту негритянку и ее новое потомство! Она каждый год радует нас новым младенцем!» А все потому, что вы – фалконхерстские негры. Вы у меня все тут тютелька в тютельку, высший сорт!
Он помолчал, пожевал губами, покивал головой, дождался, когда прекратятся крики и хлопанье в ладоши.
– А теперь главное. Вы знаете, что в Фалконхерсте никогда не было белых надсмотрщиков и управляющих. Я сам здесь за всем надзирал, потому что не питаю доверия ко всякой пьяной голытьбе, даром что белой. Чаще всего мы с вами ладили. Порем мы вас нечасто, а если бы у нас был белый надсмотрщик, то, будьте уверены, дня бы не проходило без порки. Поэтому я и не выпускаю дела из своих рук, а то, что не получится у меня, скоро будет делать вместо меня мой сын Хам. Ему с каждым днем становится все лучше. Скоро он совсем поправится и начнет следить за вашим послушанием.