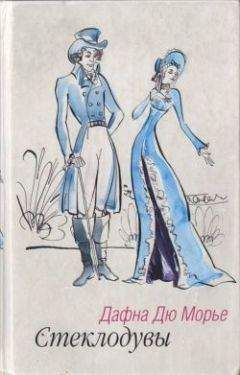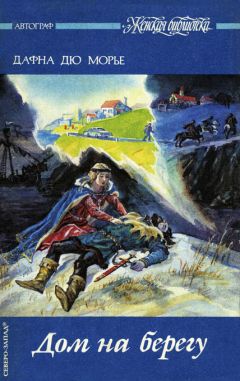Он сразу же бросился на Чапель-стрит и застал там обычную после отъезда картину: мебель покрывают чехлами, а челядь, еще не получившая расчета, убирает оставшуюся после упаковки солому и ругает сквозь зубы господина и госпожу, своих бывших хозяев.
Нет, ответили ему, никаких разговоров о возвращении не было. Герцог Орлеанский уехал из Лондона навсегда.
Этот внезапный отъезд оказал решающее влияние на моего брата. Он наконец понял, теперь уже окончательно, что ни герцог Орлеанский, ни его сподвижники не имеют никакого влияния вне пределов Франции; что же касается самой Франции, то перспективы герцога в смысле назначения его регентом или же получения какого-либо достаточно высокого поста в Национальном Собрании также весьма проблематичны. Характеру герцога недоставало огня и энергии. Он не мог стать настоящим вождем французского народа. Не так он «скроен», говорили про него англичане.
Поклонение герцогу, граничащее с идолопоклонством, обратилось у Робера в презрение. Любезность и щедрость, столь превозносимые прежде, теперь не ставились ни в грош. Герцог Орлеанский – ничтожный человек, который окружил себя карьеристами и льстецами, в то время как людей, на которых действительно можно положиться, – в их число, естественно, входил и он сам – герцог оскорбляет и отталкивает.
Робер, признавший себя банкротом, – ему грозило тюремное заключение, если бы он вдруг появился в Париже, – не мог вернуться во Францию. Он должен был стараться самостоятельно добиться определенного положения в Лондоне, продолжая работать гравировщиком у своих хозяев на Уайтфрайрской мануфактуре.
А время шло, и его жена ожидала ребенка. Лондон уже не казался им столь многообещающим городом. Если его английские сотоварищи могли рассчитывать на повышение, то Робер, как иностранец, должен быть благодарен за то, что его хотя бы держат на работе.
Первенец от второго брака, которого назвали Робером, родился в конце весны тысяча семьсот девяносто первого года, незадолго до того, как Людовик XVI вместе с Марией-Антуанеттой бежали в Варенн, к величайшему изумлению и возмущению всей Франции. В Англии, как рассказывал Робер, их побег тоже произвел большое впечатление, только по другой причине. Симпатии англичан были на стороне французского монарха и королевы, которые вынуждены искать спасения за границами своей страны. И когда беглецов схватили, во всем Лондоне не было ни единого человека, который не пел бы хвалы королевской семье за их смирение и достоинство и не поносил бы Собрание.
– Было просто невозможно, – говорил Робер, – относиться к этому событию иначе, чем к нему относились в Лондоне. Сообщение о побеге печаталось во всех газетах. В пивных, на работе, на улицах говорили только об этом, и люди, зная, откуда я приехал, обвиняли всех французов в том, что они обращаются со своим королем, как с обыкновенным преступником. Я понятия не имел о том, что происходит в стране на самом деле. Как я мог не соглашаться с ними? Я пытался объяснить, что в Национальном Собрании все дела вершат горячие головы и безответственные политики, которые заботятся исключительно о своей выгоде, на что кокни[51] отвечали мне: «Очень плохо, что французы позволяют собой распоряжаться, идут на поводу у таких людей. У нас никогда бы этого не допустили. В Англии достаточно здравого смысла, а французы просто истерическая нация». Таково было отношение англичан к событиям во Франции.
Почти сразу после бегства короля в Варенн в Англию хлынула толпа эмигрантов; все они рассказывали одно и то же: конфискация имущества, захваченные замки, преследование аристократии, духовенства и вообще всех, кто занимал сколько-нибудь видное положение при старом режиме. Англичане, всегда готовые слушать обо всем, что наносит ущерб достоинству их давнего врага по ту сторону Ла-Манша, еще преувеличивали каждую такую историю – все это вместе, объединяясь, превращалось в обвинительный акт революции, которая, как было видно, сотрясала всю Францию.
– Ты должна понять, – говорил Робер, – что уже в девяносто первом году эмигранты говорили о всеобщем разорении и отчаянии. По их словам, жить стало невозможно не только в Париже, но и во всей стране. Нет ни еды, ни порядка, ни закона; страну наводнили фальшивые деньги, для того чтобы скрыть экономическую разруху; в каждой деревне крестьяне жгут дома.
В то время как ты спокойно рожала свою дочь в Шен-Бидо – ту, которая потом умерла, – а Мишель и Франсуа покупали церковные земли, закладывая основы будущего богатства, я считал, что нашу стекловарню давно сожгли, а вы все находитесь в тюрьме. Вся моя страна и вы в том числе находитесь в руках бандитов – вот такими мы видели все события из Лондона.
Первые эмигранты, которые прибыли в Лондон в течение лета и осени девяносто первого года, были в основном представителями старой аристократии, они не могли или не хотели приспособиться к новому режиму. Под свежим впечатлением от оскорбления, нанесенного ему кликой герцога Орлеанского, и самим Лакло в том числе, мой брат поспешил подружиться с врагами своего бывшего патрона – с теми, кто был близок ко двору, предан королю и королеве, а также братьям короля: графу Прованскому и графу д'Артуа. Как эмигрант с двухлетним стажем, Робер имел известные преимущества по сравнению с новоприбывшими. Он умел разговаривать по-английски, знал местные обычаи и особенности местной жизни, и поэтому ему частенько приходилось выступать в качестве посредника между своими растерянными компатриотами с одной стороны и насмешниками-кокни с другой. Выполнить чье-нибудь поручение, осмотреть меблировку в нанимаемом доме или в квартире, помочь что-то купить подешевле – тут Робер чувствовал себя в своей стихии. Маркизы, графини и герцогини, измученные долгим путешествием сначала по Бретани, а потом по морю через Ла-Манш, были бесконечно рады и счастливы найти соотечественника, который мог им помочь и успокоить после всех треволнений. Его сочувствие, шарм и прекрасные манеры помогали им перенести тяжелое испытание – переезд, переселение в чужую страну. Иногда, когда вновь прибывшие благополучно устраивались на новом месте, его услуги вознаграждались небольшой компенсацией; в дальнейшем же, как они надеялись, об этом, возможно, позаботятся в посольстве. Что же касается личных договоренностей по поводу причитающегося ему процента при сделках с разными лондонскими торговцами или агентами по найму дома или квартир, то эти дела вообще не должны были касаться новых эмигрантов.
Вскоре стало очевидным, что сочетать работу гравировщика на Уайтфрайрской мануфактуре с его новым статусом доверенного лица при бывшей элите парижского общества – дело трудное, если не сказать невозможное. Робер, руководствуясь своим инстинктом игрока, решил расторгнуть контракт с Уайтфрайрской мануфактурой и окончательно связать свою судьбу с эмигрантами, или, как он выразился в разговоре со своими нанимателями, «моими несчастными соотечественниками». Это предприятие, как и все остальные начинания Робера, оказалось ошибкой, о которой впоследствии он горько сожалел.