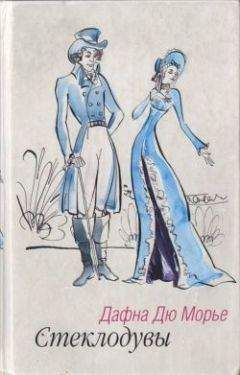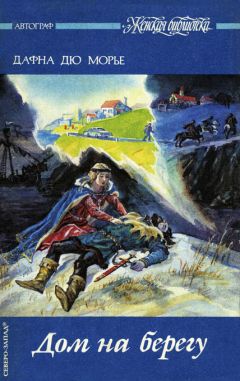Вскоре стало очевидным, что сочетать работу гравировщика на Уайтфрайрской мануфактуре с его новым статусом доверенного лица при бывшей элите парижского общества – дело трудное, если не сказать невозможное. Робер, руководствуясь своим инстинктом игрока, решил расторгнуть контракт с Уайтфрайрской мануфактурой и окончательно связать свою судьбу с эмигрантами, или, как он выразился в разговоре со своими нанимателями, «моими несчастными соотечественниками». Это предприятие, как и все остальные начинания Робера, оказалось ошибкой, о которой впоследствии он горько сожалел.
– Я поставил на эту карту, – говорил он, – рассчитывая, что мне повезет, и мне действительно везло, но только до того времени, пока у эмигрантов не кончились привезенные с собой ресурсы. Когда же они обнаружили, что им придется прожить в Лондоне не полгода-год, как они рассчитывали, – в течение этого времени с ними носились и всячески их ублажали, считая героями и героинями, – а неизвестно сколько; что у них нет никакой надежды на возвращение домой и они вынуждены принимать милостыню от англичан, счастье отвернулось от них, и от меня тоже. Откуда я мог знать в девяносто первом году, что в девяносто третьем на смену Национальному Собранию в Париже придет Конвент, что королю будет вынесен смертный приговор и что союзники, на которых мы в Англии возлагали все свои надежды, потерпят поражение от народной армии, над которой все так долго смеялись.
Эмигранты, в том числе и мой брат, которые каждый день ждали триумфального вторжения армии союзников, надеялись, что герцог Брауншвейгский возьмет Париж и за этим последует свержение Конвента, возвращение Людовика и массовые расправы с революционными вождями, к ужасу своему обнаружили, что ни одна из их надежд не сбывается. Республика, теснимая со всех сторон, стояла твердо. Король отправился на гильотину. Любого эмигранта, который осмелился бы показаться во Франции, ожидала та же судьба, как изменника и предателя своей страны, и если эмигранты не пожелают присоединиться к другим роялистам в армии принца Конде, они должны смириться со своим статусом беженцев в стране, которая с весны девяносто третьего года находилась в состоянии войны с их собственной страной.
– Медовый месяц кончился, – говорил Робер. – Не мой, конечно, мой кончился уже в первый год, – кончился медовый месяц между французскими эмигрантами и англичанами. Мы не только казнили своего короля – а нас обвиняли в этом, словно мы сами голосовали за его смерть в Конвенте, – мы принадлежали к стану врагов. И любой из нас мог оказаться шпионом. Милости, щедрость, любезность, гостеприимство – все это прекратилось в тот самый момент, как была объявлена война. Мы больше не принадлежали к светскому обществу, если не считать настоящей знати, имевшей доступ в высший лондонский свет. Все остальные были просто беженцы, у которых не осталось ни денег, ни надежды найти себе какое-нибудь занятие: они были обязаны отчитываться в своих действиях, когда от них этого требовали, и вообще на них смотрели как на досадную помеху.
Владельцы Уайтфрайрской мануфактуры выразили сожаление по поводу того, что не могут больше его нанять, поскольку гравировщиков у них более чем достаточно, так что его место уже давно занято. И вообще времена изменились, французские мастера больше не пользуются популярностью в Англии.
– Я исходил немало улиц в поисках работы, так же как и многие из нас, – признался Робер. – Мне помогало знание английского языка, и через несколько недель поисков я нашел место упаковщика на складе стеклянной и фарфоровой посуды в Лонг-Эйкр – когда у меня была своя лаборатория на улице Траверсьер, я поручал такого рода работу грузчикам. По вечерам я преподавал английский язык в Сомерстоне, в приходе Панкрас, в школе, основанной священником-эмигрантом аббатом Карроном. Нам пришлось не раз менять квартиру, и теперь мы жили в доме номер двадцать четыре по Клевленд-стрит вместе с другими эмигрантами. В этом приходе жило множество французских семей, и жить там было все равно что в Бон-Нувеле или Пуассоньере. У нас там были свои школы и даже своя собственная часовня на Конвей-стрит, недалеко от Фицрой-Сквер.
Мари-Франсуаза, несмотря на отсутствие образования – она до сих пор не умела подписать свое собственное имя, – приспособилась к изменившемуся положению так же мужественно, как это сделала бы Кэти, возможно даже с большей легкостью, поскольку воспитание, которое она получила в приюте, приучило ее переносить лишения.
– Она постоянно напоминала мне Кэти, – признался Робер, – и не только внешне, а и своими повадками. Ты не поверишь, Софи, но мне порой казалось, что я снова вернулся в прошлое, что Клевленд-стрит превратилась в Сен-Клу, где мы жили с Кэти. В девяносто третьем году, когда родился наш второй сын, мы назвали его Жаком. Фантазия сделалась еще более реальной.
Он никогда не говорил Мари-Франсуазе ни о ее предшественнице, ни о другом Жаке, теперь уже двенадцатилетнем мальчике, который жил у своей бабушки в Сен-Кристофе. Сначала, когда Робер назвался холостяком, это было сделано как бы в шутку, однако потом невинная ложь превратилась в серьезный обман, вокруг которого громоздилась все новая ложь, она сплеталась в такую плотную сеть, что ее уже невозможно было распутать.
– Я и сам начинал верить в то, что сочиняю, – говорил мне Робер, – и эти фантазии служили нам утешением в трудные минуты. Замок между Ле-Маном и Анжером, который я должен был унаследовать и который принадлежал ненавидевшему меня старшему брату, стал для меня реальностью, так же как и для нее, а потом и для подрастающих детей, словно он и на самом деле существовал. Это было нечто среднее между Шериньи и Ла-Пьером, где я провел самые счастливые годы своей жизни, и, конечно же, рядом находилась стекловарня, иначе я не мог бы объяснить свою профессию гравировщика.
По мере того как волна эмиграции набирала силу, когда наряду с аристократией на английские берега в поисках спасения устремились богатые коммерсанты, промышленники и состоятельные буржуа, фантазии моего брата окончательно оформились. В Панкрасе, где они жили, – этот приход получил в то время название «Маленький Париж» – брату, который был одним из первых эмигрантов, было необходимо поддерживать свою репутацию стойкого приверженца свергнутого короля, а впоследствии графа Прованского, которого эмигранты называли Людовиком XVII. Что же до его бывшего патрона, герцога Орлеанского, который занял свое место в Конвенте, самовольно приняв при этом имя Филиппа Эгалите, и присоединил свой голос к тем депутатам, которые голосовали за вынесение смертного приговора его кузену, то не было в Панкрасе человека, который вызывал бы большую ненависть. Робер внушил своей жене, что она никогда не должна говорить о его прежних связях с герцогом и его антуражем в Пале-Рояле.