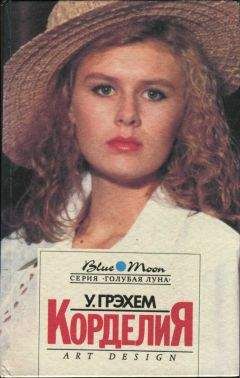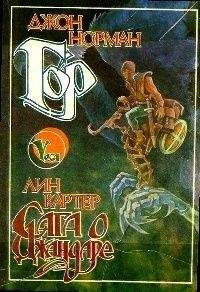– Отлично. Убирайся – когда хочешь!
Брук задыхался от гнева. Он стряхнул с плеча руку Корделии. Разочарование, сознание своей беспомощности и ненависть вмиг состарили его лицо, лишили его жизни.
– И не тешь себя мыслью, что одни только мои друзья интересуются деньгами. А тебе за какие заслуги предлагали все эти высокие назначения? Почему сделали членом Городского Управления тебя, а не кого-нибудь другого, столь же, если не более достойного? Да только из-за твоих подачек!…
– Замолчи! – завопил мистер Фергюсон. – Выйди вон из этой комнаты – пока я не вышвырнул тебя отсюда!
– Я уйду, – трясясь всем телом и еле держась на ногах, пробормотал Брук. – Я уйду…
Забыв о присутствии Корделии, он, спотыкаясь, прошел мимо нее, схватился за дверную ручку и вышел, оставив дверь открытой.
Корделия медленно последовала за ним.
Эта ссора, в ходе которой отец и сын обменивались жесточайшими, почти реальными ударами, лишила обоих сил. Корделия миновала письменный стол, величественную фигуру старика, вышла в холл и услышала, как хлопнула наружная дверь.
Он шел, не различая дороги – должно быть, по направлению к городу. Гнев и сознание своей беспомощности туманили взор. Сердце бешено колотилось в груди; Брука как будто несла вперед нечеловеческая сила. Если бы спор окончился его победой, он бы быстро успокоился; но он проиграл – и яд поражения отравой разлился в крови.
Он поскользнулся на обледенелой дороге, но тотчас поднялся. На пронизывающем ветру ему было жарко, он даже обливался потом. Луна спряталась за плотной грядой облаков, посеребрила их края.
"Поражение. Это значит… – Брук прекрасно понимал, что это значит. – Длинное, неубедительное письмо к Хью. Постепенный возврат к старому. Жалкие объяснения с теми двумя-тремя приятелями, перед которыми он успел похвастаться открывшейся перспективой. И новое, еще более унизительное рабство – без тени привязанности и элементарного уважения. Открытая война в худших формах – на работе, дома. Правда, отец не может воспрепятствовать его отъезду из Гроув-Холла. Чем дальше, тем лучше. Порвать все общественные и дружеские связи… Но отец заплатит! Нужно хорошенько обдумать план мести."
Он снова поскользнулся. Вставая, увидел на другой стороне улицы пивную. Обычно гордость не позволяла ему заходить в подобные заведения, но теперь Брук пересек дорогу и храбро толкнул дверь.
В баре было полно людей. Он заказал виски. "Значит, план мести… Старик никогда не увидит Яна. Ему только и останется, что рабский труд без всякого вознаграждения. И без надежды на примирение – никогда! Корделия будет до конца слушаться мужа."
От виски Брук еще больше вспотел, но попросил еще и расстегнул пальто. Он знал, что на него обращают внимание. Как же – сидит один, с тонким, мертвенно-бледным лицом. Это лицо да длинные волосы выдают в нем артиста. Джентльмена.
"Мечты и планы… Месть мертва и не приносит плодов. Нет ли другого выхода? Возьмут ли его в "Вестминстерский бюллетень", если он внесет только пятьсот фунтов, да Корделия даст тысячу, да он пообещает ежегодно вносить столько же? Допустим, он согласится не получать жалованья. Как-нибудь проживут в Лондоне на свою долю прибыли – вряд ли отец в состоянии лишить их этого.
Нет, не получится. Им нужна вся сумма – и немедленно. Да и точно ли тот пункт договора неуязвим? Надо бы завтра проконсультироваться с адвокатом."
– Привет! – послышалось рядом.
Возле его столика, опершись рукой о спинку стула, стояла женщина. Она улыбнулась Бруку. Черное платье с фальшивыми драгоценностями. Крашеные волосы. Он не сразу поверил, что она обращается к нему.
– Кто вы?
– Я в порядке, Мак, – быстро отозвалась она. – А ты как?
Они уставились друг на друга. Ее холодные карие глаза беззастенчиво оценивали Брука. Он покраснел.
– Что вам нужно?
– Идем со мной, весело проведем время.
– Нет, благодарю, – он встал, радуясь, что в баре шумно и их никто не слышит.
– Эй, угости-ка девушку.
Покраснев до корней волос, Брук положил на стол монету в два шиллинга и направился к двери. За спиной слышался смех – возможно, смеялись над ним.
Леденящий ветер мигом пронзил его, точно лезвие ножа. Брук окончательно преисполнился презрения к самому себе. Даже не смог, не заикаясь, отбрить женщину такого сорта, позволил смеяться над собой. Он снова побрел по направлению к городу. Рано возвращаться домой. Может быть, сегодня вообще не стоит возвращаться. Пусть отец понервничает. Правда, это жестоко по отношению к Корделии. Хоть она на его стороне.
Он увидел еще один бар и, остановившись, попробовал заглянуть в запотевшее окно. Всем существом Брука овладела смертельная усталость, сменившая искусственное возбуждение. Ноги заледенели – нельзя было выходить из дому в легкой обуви. Он вошел внутрь.
Здесь было тише, спокойнее. Он снова потребовал виски, как будто надеялся утопить в нем свое отчаяние. Какая разница? Он разбит, уничтожен морально. "Прекрасная мечта растаяла при ярком свете дня…" Кто это написал? Призрачная тюрьма приняла его в свои объятия. Да, он снова в клетке. Певчая птица и в клетке поет. В прошлом он не раз изливал душу в стихах. Нет, он не позволял себе, как и другие, откровенно писать о своих разочарованиях – это слишком больно. Помогал сам процесс. Несколько строк на бумаге действовали лучше любого успокоительного. Он бредил славой, внезапным признанием, блестящими отзывами в прессе, знакомством с великими мира…
Грезы всегда приходили на помощь. Почему же сейчас не случилось ничего подобного? Брук выпил еще стакан виски, достал из кармана карандаш и использованный конверт. Что, если раз в жизни прямо написать о своем горе? Кто может ему помешать?
Туча железной грудью затмила свет.
Снег под ногою скрипнет во тьме ночной.
Горечь моих поражений и горечь его побед.
Одинокого волка вой.
Прочь – от его чертогов! Чего ты ждешь?
Здесь только злато, и гнет, и власть.
Нежность отца – это точно такая ложь,
Как проститутки страсть.
Брук продолжал писать; слова лились нескончаемым потоком. Он чувствовал: получается нечто стоящее. Сыро, но общее ощущение, интонация, сама душа стихотворения… Это прекрасно! Горечь, злость – надежнейшие стимулы к творчеству! Им овладело вдохновение; сами собой приходили мысли, образы и легко ложились на бумагу. Бумага кончилась; он разорвал конверт и начал писать на внутренней стороне. Ему было все равно, смотрят ли на него. Он заказал еще виски, но даже не притронулся.
Наконец вдохновение иссякло. На лбу Брука выступила испарина. Получилось двенадцать строк. Еще три смутно витали в уме, но никак не могли оформиться.