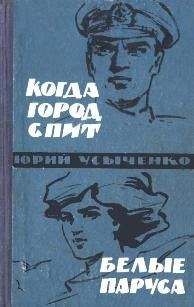Нет, я не ошибся и правильно объяснил ее взгляд!..
Какая ужасная ирония судьбы: «Волна неверная, ты поступила верно!»
XI. Последнее слово жизни
День был осенний, сухой, с бледным солнцем и летучими облачками, блуждавшими по неяркой синеве неба. В неменковской усадьбе было тихо, легкий ветерок шевелил белую занавеску на единственном открытом в доме окне. Внутри комната с открытым окном имела удивительно уютный вид. Чья-то заботливая и умелая рука сделала все возможное, чтобы превратить ее в красивое и веселое пестрое гнездышко.
По белым стенам вились ветки плюща, образуя как бы зеленые рамки вокруг нескольких недурных картин, на которых были изображены веселые сцены из деревенской жизни и улыбающиеся красивые женские лица. Вдоль стен были расставлены низкие и удобные стулья с зеленой обивкой, на столах громоздились кипы репродукций, альбомов, литографий, — словом, здесь было все, чем можно порадовать глаз.
У окна с белыми вышитыми занавесками высились два ветвистых олеандра, а в стоявшей между ними хорошенькой клетке из разноцветной лозы громко заливались две канарейки. В углу комнаты, напротив раскрытого окна, точно в беседке, окруженная зеленым плющом и всевозможными комнатными растениями, стояла низкая мягкая софа. Над софой висела небольшая картина: два голубя, махая крыльями, садятся на цветочную клумбу; на полу расстилался пушистый яркий ковер.
Все же, несмотря на веселое и красочное убранство комнаты, от нее веяло грустью. С олеандров, тихо шурша, осыпались полуувядшие пожелтевшие цветы, листочки плюща, увивавшего стены, зябко вздрагивали от осеннего ветра, который задувал в открытое окно, штамбовые розы в вазонах отцветали, а пышные соцветья бледно-лиловых гортензий, светлевшие среди темных миртов и розмаринов, лишь подчеркивали этот траурный фон.
На софе лежала Винцуня.
Она была одна и смотрела в окно. Перед ней в просвете между занавесками открывалась неширокая, но разнообразная картина: сбоку виднелась опушка рощи, расцвеченной всеми красками осени: кроны стройных берез мягко золотились среди оранжевых дубов, там и сям розовели заросли осинника и пылали алые кисти рябины; сверху светлело бледное матовое небо, затканное полупрозрачной дымкой, а внизу, во дворе, зеленел газон, весь в пятнах опавших листьев, окружая большую клумбу, на которой росли белые и розовые астры; белые уже пожелтели и опустили головки, розовые еще стояли прямо и гордо, точно смотрели свысока на своих преждевременно увядающих сестер. Далее, у ворот, несколько сумахов медленно помахивали широкими кровавыми листьями, за воротами белела дорога, и виден был кусочек поля, к которому она вела, поросший буйной желтоватой зеленью, — на этом картина обрывалась, срезанная косяком окна. Взгляд Винцуни то скользил по верхушкам дубов, то опускался вниз, на клумбу с увядающими астрами, то вновь убегал вдаль, к вереницам розовых осин, или следил, как с березы падает золотой листик, катится, подхваченный ветром, по желтой траве, пролетает над кровавыми сумахами и уносится в поле. Иногда занавеска, трепыхаясь на ветру, закрывала часть вида, — тогда Винцуня слегка взмахивала рукой, точно хотела этим жестом устранить помеху, отделявшую ее от кусочка мира, на который она смотрела, но ветер тут же менял направление, отбрасывал занавеску в другую сторону, и снова открывался дальний план картины с косыми линиями полей и серебряными нитями паутины, летавшей над полями.
Тихо, тихо было вокруг, только канарейки щебетали у окна да в глубине рощи им в ответ изредка раздавался щебет какой-нибудь заблудившейся пташки, опечаленной приходом осени.
Вид молодой женщины на диване говорил о глубоком упадке жизненных сил, но глаза у нее лихорадочно блестели и на щеках играл яркий румянец. Ее бледный лоб, увенчанный светлыми жгутами кос, смутно белел на темном фоне подушки, руки были белы, как алебастр, и, как алебастр, прозрачны; безвольно лежали они среди складок платья. Винцуня часто кашляла и дышала тяжело, неровно.
Резкий контраст с этой смертельной бледностью и бессилием, которыми был отмечен весь вид молодой женщины, являл ее радостный девичий наряд. Винцуня была в том самом розовом ситцевом платьице, которое любила носить в девушках, и в косы она, как тогда, вплела несколько мелких белых астр. Солнце садилось, до заката оставался какой-нибудь час; Винцуня все чаще с грустью поглядывала на дверь.
За окном промелькнула мужская фигура; у Винцуни просветлело лицо — в комнату вошел Болеслав; он подошел к молодой женщине, взял ее руку, и тут ему бросились в глаза розовое платье и цветы в волосах; он побледнел и, целуя ей руку, с болью проговорил:
— Моя Винцуня!
Еще радостнее засияло лицо Винцуни.
— Спасибо, что ты меня так назвал! — прошептала она с благодарной улыбкой.
Болеслав сел рядом, продолжая глядеть ей в глаза и не выпуская ее руки из своей. Он молчал, а Винцуня все с той же улыбкой и неизъяснимой нежностью в голосе говорила:
— Как я ждала, как хотела, чтобы ты назвал меня Винцуней… мне казалось, что после этого на душе станет по-старому легко и радостно, но с того дня, как мы расстались, ты обращался ко мне только: «пани Винцента»… Смотри! Я сегодня нарочно оделась, как тогда, чтобы напомнить тебе твою Винцуню… твою бывшую невесту. Чистую, как роса, быструю, как рыбка в ручье, веселую, как птица в поднебесье… Было и прошло… Но ведь и капля росы, которая поутру отливает серебром, к полудню тускнеет от пыли, радужная рыбка попадает в рыбачью сеть, а птица, такая веселая весною, осенью опускает озябшие крылышки и умирает где-нибудь на березе среди пожелтелых листьев… Посмотри: мое бедное платье давно не видело света, я его хранила в память о прошлом, и оно лежало себе в темноте. Сегодня я его вынула и обрадовалась ему, как любимому другу… Оно выцвело, поблекло… Мы с ним оба поблекли… В нем я начинала жизнь, в нем и закончу ее…
— Винцуня, не надо так говорить! — взмолился с отчаянием Болеслав.
Винцуня тихо улыбнулась, положила ладонь на его руку и продолжала прерывистым голосом:
— Болеслав, к чему себя обманывать! Я знаю, что умру, и скоро… Но не надо отчаиваться! Смерть для меня — наилучший выход… Другие женщины, такие же несчастные, как я, мучаются долгие годы и нередко, не выдержав бремени страданий, нравственно погибают. Я недолго страдала и ухожу из мира чистой… и я умру при тебе, мой лучший друг, и перед кончиной смогу открыть тебе душу…
Учащенное дыхание не давало ей говорить, она помолчала несколько секунд, потом, собравшись с силами, продолжила: