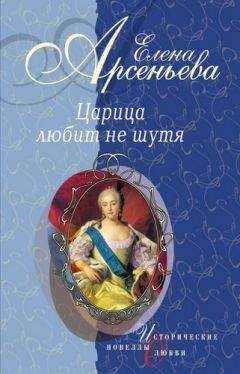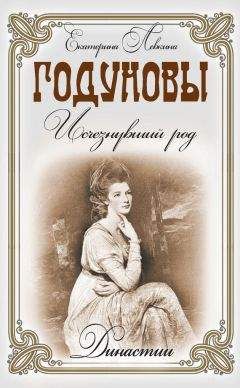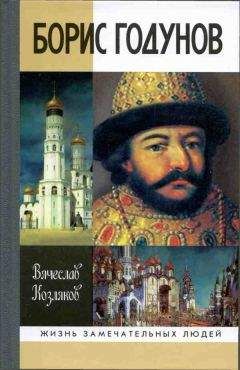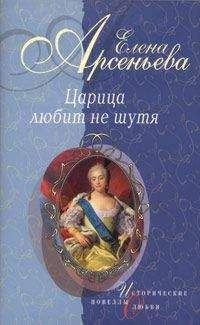О да, он имел все основания быть довольным собой, потому что, кажется, вполне удовлетворил эту русскую вакханку. Честно говоря, в первую минуту, когда д’Эон сообразил, зачем императрица решила назначить только что представленного ей французского посланца (или посланницу?) своей ночной лектрисой, он откровенно струсил. Вдобавок всем было известно, что Елизавета ничего и никогда не читала, кроме Священного Писания.
Заметив нерешительность кавалера-мадемуазель, Елизавета сочла нужным набросить легкий флер приличия на свои откровенные намерения.
— Видите ли, шер ами, — сказала она с мягкой, интимной ноткой в своем хрипловатом, волнующем голосе, — один из моих царедворцев, Шаховской, рассказывал мне, как проснулся одним ноябрьским утром… четырнадцать лет назад! — Елизавета чуточку усмехнулась, и д’Эон, который уехал из Парижа должным образом подготовленным по новейшей русской истории, сообразил, на какое именно утро она намекает. — Вернувшись с бала в час ночи, наш сенатор уснул глубоким сном, и его разбудили удары в ставни. Сенатский пристав явился с призывом: присягать цесаревне Елисавете, только что вступившей на престол. Шаховской немедля ринулся во дворец и встретил там множество народу, которые задавали друг другу один и тот же вопрос: «Как это сделалось?» — «Не знаю!» — звучал один и тот же ответ… — Императрица лукаво взглянула на д’Эона: — Понимаете, я совсем не хочу, чтобы моим царедворцам снова пришлось внезапно, ранним утром, присягать кому-то другому, а не мне. Именно поэтому я страшно боюсь ночи. Увы, именно по ночам беда имеет обыкновение являться к людям! Предыдущее царствование было прервано в ночи, да и регент Бирон был арестован среди ночи. И я стараюсь не спать до утра, заполняя ночи самым разнообразным досугом. Мои доверенные дамы — их называют чесальщицами — болтают и сплетничают. А иногда мне приходит в голову охота, — взгляд Елизаветы стал уж вовсе откровенным, — охота… почитать…
Конечно, конечно: трудно было бы придумать более подходящую декорацию для того, чтобы склонить Елизавету подписать договор с Францией, чем постель. Или д’Эон ошибся относительно намерений императрицы? Нет: румянец на скулах, приоткрытые губы, блестящие глаза и часто вздымающаяся грудь весьма недвусмысленно заявляли об этих намерениях! Но… как же наказ принца де Конти — поговорить с Елизаветой о возможном браке?..
Однако то был последний проблеск трезвомыслия. И д’Эон, постоянно прилежно повторявший себе: «Я девушка! Я девушка!», мысленно провозгласил: «Я ведь мужчина!» — и склонился перед желанием русской императрицы.
Чесальщицы на эту ночь остались без работы, а истопник и верный страж Василий Чулков провел ночь не у порога царицыной опочивальни, а за этим самым порогом.
И все же д’Эон чуть было не оскандалился в ту минуту, когда должен был состояться первый франко-русский альянс. Он вдруг подумал: «Эта лежащая передо мною женщина обнимала бесчисленное множество мужчин, встреченных ею случайно, иной раз прямо на улице. Сколько раз ее уста, грудь, шея обесчещены поцелуями солдат!» Мысль была крайне несвоевременна, и чистоплотное естество д’Эона, во время пути в Россию никем не востребованное и потому несколько обленившееся, отказалось встать во фрунт. «Я оказался в самом затруднительном для мужчины положении, — откровенно напишет потом кавалер в своих мемуарах, — особенно если учесть, что рядом была абсолютная правительница. Я был ни жив ни мертв… Но, к великому моему удовлетворению, царица не рассердилась на меня, чего я так опасался, а расхохоталась, не сочтя меня виноватым в том, в чем я действительно виноват не был и что сам впоследствии исправил».
Итак, все кончилось к общему удовольствию.
— А скажи, милый, кто тебя научил так целоваться? — спросила императрица, не переставая гладить гладкую грудь и шелковистые плечи любовника.
«Герцогиня де Рошфор!» — чуть было не брякнул д’Эон, однако вовремя спохватился и принял непонимающий вид:
— Как — так?
— Да так, чтобы кавалер ласкал даму своим язычком, когда целует ее, да мало того — чтоб оным языком ее языка касался?! Экое нахальство! — произнесла Елизавета с видом оскорбленной невинности.
Д’Эон подивился было ее ханжеству, вспомнив громкую славу императрицы и, к слову сказать, ее маменьки (да и папенька был хор-рош!), но потом вспомнил еще кое-что. И в Париже, и здесь, в Петербурге, его уже предупреждали о загадочной, двойственной природе императрицы. Это была и распутница, и монахиня. По неутомимости в постели она могла дать фору любой полковой шлюхе, однако… однако в какой-то церкви она вдруг заметила, что ангелы, окружающие образ святого Сергия, слишком напоминают купидонов, — и тотчас приказала прокурору Священного Синода исправить этот недосмотр. Фрески церкви были переписаны.
Одним словом, подумав, д’Эон отнесся к вопросу более снисходительно и пояснил, что это никакое не нахальство, а французский поцелуй. Во Франции все целуются так и только так!
— Разве ваше величество не согласны, что целоваться по-французски гораздо слаще, чем просто ласкаться губами, и любовники становятся друг другу очень близки, так близки, что ближе некуда?
Елизавета задумчиво кивнула:
— Французский поцелуй, говоришь?..
И она приникла к губам кавалера, как бы стремясь доказать ему, что вполне усвоила иноземную манеру целоваться, это во-первых, а во-вторых, что хочет стать ему очень близка… Д’Эон отвечал со всей возможной пылкостью, втихомолку мечтая о такой же близости между Россией и Францией, douce France. И ему казалось, что он держит в объятиях не русскую императрицу, а саму эту страну, такую загадочную, такую непостижимую, такую податливую… и такую недоступную!
Эпилог
Мечты д’Эона не остались бесплодными. Правда, их исполнение длилось почти два года: только в апреле 1757 года кавалер-мадемуазель, еще два-три раза побывавший в России — уже в мужском платье (он выдавал себя за сестру-близнеца Лии де Бомон), привез Людовику подписанный Елизаветой договор и план военных действий русской армии. Это означало нарушение союзного договора России с Англией и полный триумф Франции! Не менее счастливым он чувствовал себя оттого, что Елизавета приказала канцлеру Бестужеву щедро наградить кавалера — «за оказанные мне услуги».
В Версале его тоже долго поздравляли. Потом король подарил д’Эону золотую табакерку, украшенную жемчугом, значительную денежную сумму и звание лейтенанта драгун.
Де Конти был настолько доволен успехом основной миссии нашего героя, что даже не вспоминал о провалившемся сватовстве.