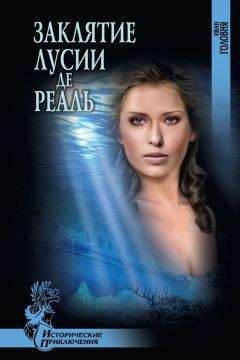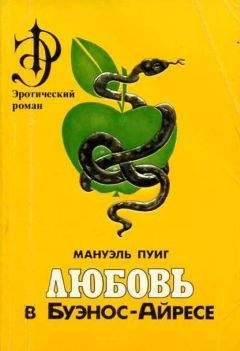Теперь я знала, что в соединении человеческих тел и душ нет ничего греховного или постыдного. И все же исповедаться я не решилась. Мне стало страшно. Падре Хусто наверняка наложил бы на меня самую суровую епитимью, а то и вовсе не допустил бы к причастию. Едва ли кто-то из обитателей монастыря хоть раз занимался любовью. Для монахинь человеческая плоть была вместилищем порока. Никто не поколебал бы их в убеждении, что половой акт — вещь грязная и мерзкая, но, к великому сожалению, необходимая для продолжения рода. Учителя в интернате предпочитали не поднимать завесу тайны над этой сферой жизни. Бесконечная проповедь добродетели давно набила мне оскомину. В моей семье к религии относились как к социальному институту, своего рода общественному договору. Отец говорил, что люди придумали красивую легенду, чтобы хоть немного примириться с неизбежностью смерти. Райские кущи и ангельское пение были надежной, хоть и наивной альтернативой пустоте и забвению. Впрочем, неизменно повторял отец, каждый волен сам выбирать, во что ему верить. Мать не спорила, только добавляла, что ни ей, ни ему религиозное воспитание не повредило. По вечерам мама часто молилась вместе со мной, отдавая дань доброй старинной традиции. Я выросла равнодушной к религии, а непримиримость монахинь, считавших, что долг человека — всю жизнь каяться за грех своего рождения, не прибавила церкви симпатии в моих глазах. Я верила в ад и посмертное воздаяние, но никак не могла согласиться, что высшее существо, создавшее наш мир и наполнившее его такими удивительными вещами, как, например, колибри, может быть таким жестоким. Мне был по душе добрый и милосердный Бог. Не так-то просто было примириться с мыслью о том, что после смерти моего отца постигла кара за измену и меня ждет то же самое за грехопадение в объятиях Мануэля. После смерти родителей я часто думала о таких вещах. Наверное, мне не помешал бы совет мудрого взрослого человека. Падре Хусто на эту роль не годился, однако, не обнаружив меня в очереди за гостией, матушка Луиса Магдалена мигом заподозрила бы неладное. Причастие без исповеди было крайней формой богоборчества, на которую я оказалась способна.
В тот день я, как никогда, жалела о том, что у меня нет верной подруги. Рассчитывать на Пилуку, Марину или тем более Маргариту не приходилось. Доверившись им, я рисковала разделить свою тайну со всем интернатом. Не успеешь оглянуться, как новость полетит от одной воспитанницы к другой, обрастая все более скандальными подробностями. В глубине души я гордилась воскресным приключением, хоть и не уставала поражаться собственной храбрости. Как я могла допустить такое? А вдруг Мануэль перестанет меня уважать? И откуда только взялась эта необоримая страсть, что вновь просыпалась и рвалась на волю, стоило мне только вспомнить о его ласках? И откуда у него взялось столько нежности, когда он утешал меня, заплаканную и потерянную, после того как все кончилось?
В среду я попросила у монашек разрешения позвонить бабушке с дедушкой, а сама набрала номер Мануэля. Мой звонок обескуражил его. Судя по всему, я была последним человеком, которого он рассчитывал услышать. Потрясенная его холодностью, я поспешила поскорее закончить разговор. Собственная тонкокожесть с ранних лет причиняла мне немыслимые страдания. К тому же я вбила себе в голову, что мое горе отталкивает людей. Вот и теперь я поспешила сделать вывод: Мануэль стал меня презирать. Наверняка он счел меня бессовестной девкой и решил прекратить наши встречи. Отчаяние придавило меня к земле. Я даже перестала есть. Но в пятницу мне пришла открытка с фламандским гобеленом.
Лусия, на этой неделе у меня было чертовски много работы. Вместо своего пыльного кабинета я предпочел бы оказаться с тобой на свежем зеленом лугу, чтобы ты положила голову мне на колени, а я рассказывал тебе о том, как Хуане жилось во Фландрии. В воскресенье, в полдень. Ты пообедаешь со мной?
Мануэль.
В церкви Сан-Сиприано неподалеку от интерната исповедовали вечером по субботам. Едва переступив порог, я машинально перекрестилась и отыскала глазами исповедальни. Они располагались на противоположной стороне нефа и напоминали огромные комоды из темного дерева. Я присела на скамью, рядом дожидались своей очереди несколько женщин средних лет. В церкви висела гробовая тишина. По дороге я долго и весьма убедительно доказывала себе, что не попаду в ад, во-первых, поскольку его, по всей вероятности, не существует, а во-вторых, потому, что Господь поймет и простит меня, но, шагнув под своды мрачного храма, почувствовала себя заклятой грешницей, новой Марией Магдалиной. Распятый Христос над алтарем глядел на меня с холодным укором. Я закрыла лицо руками. Меня вдруг настигло всеобъемлющее мучительное раскаяние. Я со всей искренностью клялась себе вернуться на стезю добродетели и больше никогда не грешить. Но еще предстояло найти слова, чтобы поведать священнику о своем падении: «Меня соблазнил взрослый мужчина, и я ему позволила…» Нет, лучше так: «Падре, мне нет прощения, я не смогла сберечь свою невинность». Первый вариант было не так стыдно произнести вслух, зато второй казался мне куда честнее. Пока я терзалась сомнениями, подоспела моя очередь. Не зная, куда девать потные руки, я опустилась на колени и произнесла положенную в таких случаях краткую молитву. В темной исповедальне стоял затхлый запах старой древесины и непрощенных грехов. Священника скрывал пурпурный занавес, из-под которого виднелись начищенные ботинки.
— Что ж, дитя мое, поведай мне о своих грехах, — сурово произнес исповедник, поинтересовавшись, когда я в последний раз причащалась.
— Я занималась любовью со своим женихом, падре.
Повисло молчание. Священник закашлялся. Я сжала руки в кулаки так сильно, что ногти вонзились в ладони.
— Ты сделала все, чтобы преодолеть искушение?
— Не знаю. Это как-то само собой получилось. Это было сильнее меня, — жалобно пробормотала я.
— Продолжай. Расскажи мне все, как было.
Это было уже слишком. Я бросилась наутек. Как можно заставлять людей исповедоваться в таких вещах! Кто дал священникам право выпытывать интимные подробности? Немного успокоившись, я отправилась на исповедь к падре Хусто. Пришлось признаться в дурных мыслях и нечестивых желаниях, уповая на то, что Господь правильно поймет мой намек.
В воскресенье, вместо того чтобы вызвать такси, Мануэль повел меня по узким улочкам квартала Кастельяна в маленький ресторанчик с черепичной крышей. Нам сразу принесли закуски. Мануэль заказал мидии, тортильи, окорок, сыр, маслины, шампиньоны и еще кучу всяких вкусностей. Запивать все это великолепие полагалось красным вином. Мануэль держался как ни в чем не бывало. Глядя на него, я перестала волноваться. Должно быть, у взрослых так принято, решила я, надо принять правила игры.