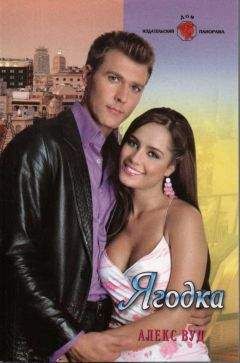Даже если бы и захотела Крылинка повиноваться повелению, то не смогла бы: опуститься-то на колени она сумела неведомо как, а вот встать уже не выходило. Силы словно ушли в землю от пронзившего её горя, и она могла только цепляться за руки и плечи супруги и сотрясаться от рыданий.
– Как же это так… Глазки, глазоньки твои, родная моя! – бормотала она, и от всхлипов колыхалась её необъятная грудь с сердоликовыми бусами. – Как же это так вышло-то… Ох, горе-беда…
– Ну, ну, мать, не хлюпай, люди кругом, – с нарочитой грубоватостью отвечала Твердяна, утирая с подбородка молочные капли. – Ты как сюда попала?
– Это я её впустила, – призналась подошедшая Горана. – Нечаянно вышло, уж не серчай. Рада, видать, рассказала ей, вот матушка и прибежала.
– Вот ведь маленькая зараза, – проворчала оружейница. – Когда надо слово молвить, молчит, как рыба об лёд, а когда язык за зубами попридержать следует… Эх, что уж теперь говорить! Не хотела я тебя, мать, пугать прежде времени, велела подмастерьям за Радой последить, да не уследили, видать. Ну, ну… Успокойся.
Твердяна встала, помогла безутешной Крылинке подняться и усадила её на своё место. Тут же ей подставили другую скамеечку, и она устроилась рядом с супругой, ласково обнимая её за плечи и уж не ругая за проникновение в недозволенное место.
– Ну всё, всё, сердешная моя, уймись, – смягчая свой грозный голос, утешала она Крылинку. – Не разводи сырость, а то железо кругом – ещё ржой, чего худого, покроется…
От этой неповоротливой шутки Крылинка только пуще расплакалась. Гладя трясущимися пальцами суровое и отмеченное шрамами, но столь любимое лицо, она с ужасом обходила повязку, боясь причинить боль повреждённым глазам. Увечья, нанесённые оружейной волшбой, не так-то просто излечивались: свидетельством тому был бугристый рубец Твердяны, с которым она жила с незапамятных времён. Хоть он и уменьшился за годы пользования примочками с целебными отварами на воде из Тиши, но так до конца и не изгладился. Душа Крылинки обращалась в глыбу льда от мысли о том, что супруга может потерять зрение навсегда. Как же ей работать тогда? Как жить?
– Водичкой-то… водичкой целебной промывали? – оглянувшись на старшую дочь, спросила женщина.
– Первым делом и промыли, а то как же, – кивнула та. – Волшбу тоже сразу обезвредили. Поглядим, что далее будет. Может, и отойдут глаза-то, снова видеть начнут.
А Твердяна тем временем невозмутимо принялась за обед, словно ничего страшного и грозного с нею и не случилось – так, пустяковая царапина, а не слепота. Отсутствие зрения ей как будто совсем не мешало: она со звериной чуткостью находила еду по запаху и ухитрялась даже ложку мимо рта не пронести. Крылинка поначалу порывалась помочь, подсказать, но супруга мягко отстранила её руку:
– Я сама, моя голубка. Всё хорошо. Может, тоже поешь? А то тут столько всего, что нам и не осилить.
Но Крылинке кусок не лез в горло, а слёзы всё не унимались, катились ручьями и щипали своей солью кожу. Твердяна пригласила к обеду Горану со Светозарой и Шумилкой, княжну Огнеславу, а также гостью с севера, Тихомиру. Последняя, не разделяя с остальными привычки ходить в кузне раздетыми до пояса, всегда была в рубашке, какое бы пекло вокруг ни царило. Ей не хватило сиденья, и она без смущения устроилась прямо на шершавом камне двора-площадки.
После обеда Твердяна сказала:
– Ну, ладно… Так уж вышло, что не работница я сегодня больше. Без глаз-то несподручно, хочешь не хочешь – а придётся домой идти. Меч государыни Лесияры отложим пока, а с прочими делами вы тут и без меня управитесь.
– Управимся, будь спокойна, – заверила её Горана, которая давно уж по уровню своего мастерства вышла из учениц, но кузню своей родительницы не покидала: ей предстояло принять её в наследство, когда Твердяна отойдёт от дел.
– Ну, тогда оставайся тут за старшую, – кивнула ослепшая оружейница. И, протянув руку Крылинке, вздохнула: – Ну что? Пошли, мать… Хоть и не по душе мне лодырничать, да делать нечего – отдохнуть, видимо, всё ж таки придётся.
Торопливо вытерев влажные щёки, Крылинка поднялась и приняла большую, шершавую руку своей супруги в обе свои ладони. Тёплое спокойствие, непоколебимо величественное, как горы, утешительно скользнуло ей на плечи, разглаживая и смягчая тугой комок горя, засевший под сердцем, и Крылинке даже стало совестно за свои слёзы перед сдержанными кошками.
– Ну и отдохнёшь, не всё ж на работе надрываться! – Только далёкому чистому небу было известно, какого усилия ей стоило взять себя в руки и придать голосу бодро-деловитое звучание.
Супруги вместе шагнули в проход, который вывел их в родной двор. По-прежнему беззаботно шелестели в солнечном мареве яблони, наливались алым соком бока вишенок в глубине дышащей и поблёскивающей тёмно-зелёной листвы… Ненужными стали перекладины над опустевшими кустами смородины, но не было времени их убрать.
Твердяна чуть споткнулась, вслепую переступая порог, и Крылинка, поддерживавшая её под руку, всем телом напряглась в порыве подхватить её.
– Тихонько… Порожек… На лавочку пойдём… Вот сюда шагай, налево…
– Свой дом я на ощупь знаю: сама строила, каждый камушек мне в нём знаком, – молвила оружейница, без труда находя лавку и садясь.
А Крылинка, не давая Зорице и Рагне времени на ахи и охи, велела им немедля принести воды из Тиши – снова промыть Твердяне глаза. Веровала она крепко в чудесную целительную силу подземной реки, в водах которой омывали свои корни сосны в Тихой Роще.
– Да полоскали уж, – махнула рукой Твердяна.
– Ещё раз прополощем, – упрямо ответила Крылинка. – Сколько потребуется, столько раз и будем мыть. Не припомню такого случая, чтоб водица сия не помогала.
– С оружейной волшбой не так просто дело обстоит, моя милая, – невесело покачала головой Твердяна, осторожно щупая повязку. – Ну да ладно, вреда всё равно не будет.
Сердце Крылинки сжалось от холодящего дыхания, которым повеял этот страшный миг: узел развязался и серая тряпица соскользнула с глаз Твердяны, застывших белыми льдинками без зрачков. Тонкая струнка надежды с тихим стоном лопнула: нет, не могли эти помертвевшие очи снова увидеть свет солнышка… Долго Крылинка не могла ничего вымолвить и не вытирала катившихся по щекам слёз; никогда не обманывал её тихий голос души, которому она научилась внимать и полагаться на его подсказки. Веки остались целы, даже ресниц не тронула волшба, но отняла самое драгоценное – зрение.