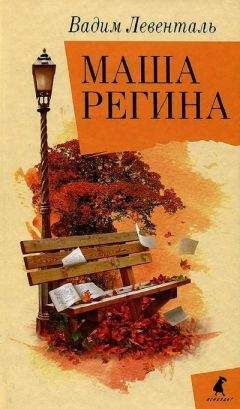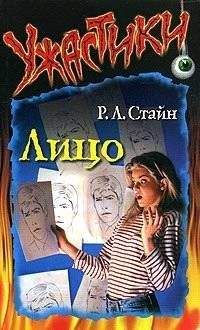Растягивает побелевшие губы в подобие улыбки, спрашивает потеряно:
— К-кирилл Александрович?
— Что вы здесь делаете? — я интересуюсь спокойно.
Почти.
Душить даже самых раздражающих студентов нельзя.
Как и топить их в формалине.
Пусть в голове и мелькает подлая мысль, что в подвалах хранятся трупы и спрятать ещё один точно получится — коллеги не выдадут.
Кулич так и поможет.
— А я… я тут… вот…
— Препараты бьёте? — я подхожу осторожно, подсказываю услужливо.
Издеваюсь от злости на неё и окончательно испорченный вечер, который уже перетёк в ночь, что за разборками тоже промелькнет незаметно.
И надо ещё звонить Лопуху…
— Угу, — Дарья Владимировна соглашается обреченно.
Потухают искры в медовых глазах.
И препарат — полушарие мозга — она пытается незаметно и по-детски задвинуть под стол.
Дура.
Ходячий детский сад, что весь семестр веселился, улыбался, развлекался, открывал учебники за ночь до зачёта и ходил на пересдачи.
Всё же учился.
Вспыхивал радостью, когда за соматическую нервную систему получил заслуженные и максимальные шесть баллов.
И смеялся ходячий детский сад солнечно даже в самый пасмурный и ненастный день, вызывая попеременно желание наорать и улыбнуться в ответ.
— Дарья Владимировна, — я приседаю, подбираю крупный осколок и на закусившую губу Штерн смотрю снизу вверх, — как думаешь: тебя сразу отчислят или дадут возможность объясниться?
Она вздрагивает, смотрит огромными глазами.
И, глядя в её глаза, злость напополам с душевным раздраем накатываются с силой цунами, заставляют раздражённо рявкнуть, вывести из анабиоза застывшего истукана:
— Ты окна откроешь или подождешь пока задохнемся?!
— От-открою, — Штерн соглашается, икает и заикается.
Подрывается с места, чтобы окна дрожащими руками распахнуть. И телефон, наблюдая за её мечущейся по кабинету фигурой, достать не получается.
Не набирается номер Лопуха.
И вместо этого я маню Дарью Владимировну к себе пальцем, указываю на так и не запихнутое под стол полушарие, сообщаю с раздражением и иронией, растягивая её фамилию:
— Штерн, радость моя, посмотри на мозг. Видишь? Молодец, — языком я щелкаю одобрительно, бью прицельно каждым словом.
Что душевный раздрай затыкают.
Дают дышать.
И не думать, что решение уже принято и звонить Лопуху против всех правил я не стану, промолчу, закрою глаза, помогу вопреки собственному здравому смыслу, с которым в отличие от Дарьи Владимировны обычно дружу.
— Запоминай, как он выглядит у других, поскольку у тебя извилина одна, да и та прямая. Ку-у-уда без перчаток, Дарья Владимировна?!
Вопрос получается ласковым.
Нежным.
Ядовитым.
— Я…
— Прямая извилина, Штерн. В моём кабинете, верхний ящик, — я командую, вкладываю связку ключей в ледяную руку и к двери разворачиваю. — Бегом…
Напутствие Дарья Владимировна принимает в прямом смысле слова, убегает, а я отчётливо хмыкаю, спускаюсь вниз, чтобы на спящего охранника полюбоваться.
Порадоваться.
И к Штерн вернуться.
Понаблюдать, как она затирает где-то найденной тряпкой формалин, отжимает тряпку в ведро, утирает лоб рукой и… дрожит.
Трясётся в разноцветном свитере от выстудившего музей холода.
И нос у неё уже синий.
Поэтому собственную куртку я ей отдаю, не спрашиваю где её собственная, как и не интересуюсь каким способом она попала на закрытую кафедру. Слова «спор», что было выстучано зубами, мне хватило, объяснило многое и вдаваться в подробности желания не возникло.
Лучше её голос не слышать.
Лучше не разговаривать.
Лучше курить.
И молча ждать, когда кабинет проветрится достаточно, чтобы окна можно было закрыть, вывести Дарью Владимировну через черный ход, доставить домой.
Забыть раз и навсегда эту ночь.
И никогда не вспоминать, не пытаться разобраться почему…
Вот только её взгляд прожигает и нервирует, заставляет всё же заговорить:
— Что, Штерн?
— Мне отчислят, да? — она спрашивает жалко.
Шмыгает носом, и против воли я к ней оборачиваюсь, смотрю на теперь уже красный нос, снова закушенную губу и глаза, в которых слезы застыли напополам с вызовом и отчаяньем.
— Не реви, никто тебя не отчислит, — я усмехаюсь криво.
Устало.
Она же вспыхивает, сползает со стола, на который взгромоздилась, закончив уборку, и ко мне приближается, переваливается из стороны в сторону от тяжести куртки, тонет в ней.
Кажется взъерошенным мелким воробьем.
Задиристым и забавным.
— Вот только врать мне не надо, ладно? — она ворчит сердито, накручивает сама себя, сверкает глазами, которые только и видно. — И жалеть тоже! И… отчисляйте, пожалуйста! Не больно-то и хотелось. Прекрасно проживу и без вашего меда. Да я сама завтра в деканат пойду!
Здравый смысл обошёл Дарью Владимировну стороной.
Признаю.
Сдерживаю смех и извещаю её лениво:
— Завтра суббота, Штерн. Они не работают.
— Значит в понедельник, — она упрямо задирает нос, вскидывает гордо голову, спрашивает с вызовом. — Или вы сами хотите настучать на меня? Желаете рассказать первым?
Я желаю её придушить.
Притопить в формалине.
Дернуть за вьющуюся задорную прядь волос.
Выпороть, поскольку в детстве ей явно не додали, не объяснили, что к двадцати годам пора взрослеть и умнеть.
Не быть детским садом.
— Штерн, ты помнишь, что я тебе на первой паре сказал?
— Что я детский сад ходячий, — она сдувается как-то враз, теряет весь запал, буркает обиженно.
Вот только от того, что она помнит, почему-то появляется радость, которая заставляет почувствовать себя мальчишкой, протянуть самодовольно и весело, поддеть её насмешливо:
— Ну во-о-от, полгода прошло, а ничего не изменилось, Дарья Владимировна. Всё тот же детский сад…
Она же возмущенно фыркает, отворачивается с независимым видом к окну, становится окончательно похожа на нахохленного воробья.
И я все же смеюсь.
Закрываю окна, а после музей.
Увожу ставшую вдруг задумчивой и молчаливой Дарью Владимировну домой, и теперь очередь коситься на неё моя.
— Даша, — я первый раз окликаю её по имени, зову, когда торможу у подъезда новостройки, а Штерн распахивает дверь и тихо прощается, — я… не стану никому ничего рассказывать.
Она застывает, оборачивается для едва слышного вопрсоа:
— Почему?
Почему помогли?
Почему никому ничего не расскажете?
Почему, если я вас доставала весь семестр и раздражала?
В её глазах мелькает тысяча «почему», но с губ слетает только одно. Но даже на него вразумительного ответа у меня нет.
Я просто не хочу, чтобы её отчислили из-за глупости.
И спора.
— Потому, будем считать, что за тобой должок, — я усмехаюсь, тяну открытую дверь на себя, хлопаю сильней, чем требуется.
Даю по газам.
Оставляю растерянную Дарью Владимировну в свете подъездного фонаря и в пришедшей неслышной поступью метели.
Четыре
Май
— Нет, Кирюха, ты все ж везунчик. Такой цветник и весь у тебя, — Стива, приваливаясь плечом к стене, протягивает наигранно завистливо.
Восхищается театрально.
И зардевшемуся проходящему мимо цветочку подмигивает.
— Не вводи людей в заблуждение, — я хмыкаю цинично.
Отворачиваюсь от галдящего цветника, вываливающегося из конференц-зала, где цветочкам — уже давно созревшим и даже отучившимся — Олимпиада Викторовна закончила читать лекцию по повышению квалификации.
Отпустила.
А меня, отвечая на звонок, попросила подождать.
— Не буду, — Стива соглашается легко, и пачку сигарет он вытаскивает невозмутимо, — буду мрачен и таинственен, как ты. К слову, одна красивая блондинка прожигает тебя страстным взглядом уже минут пять, а ты…
— А я жду Олимпиаду.
Которую остаться на месяц старшей медсестрой вместо заболевшей Венеры ещё придётся уговорить, подобрать слова и поулыбаться с куда большим обаянием, чем развлекающийся от скуки Стива.