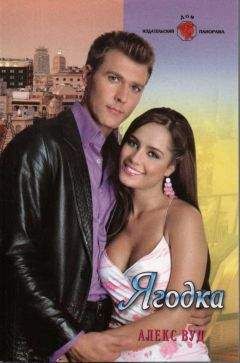Оружейницы отделяли по одному слою в день. Сперва описанным выше образом снимали волшбу на стальную болванку, после чего Твердяна, соединившись сердцем с нижележащим узором, пускала в него мощный толчок силы. Дзинь! Слой стали, державшийся на нём, сам отскакивал, открывая под собой рисунок из мерцающих завитков и волн. Его переплавляли в пластинку и укладывали в жёлоб болванки с соответствующей ему волшбой, после чего половинки соединяли, чтобы узор снова врос в сталь.
Работа шла тяжело. Голова гудела, как наковальня, а сердце, один из главных рабочих инструментов, бухало, как молот. Твердяна с Тихомирой трудились по очереди, проверяли и перепроверяли соответствие волшбы слоям стали, ведь одна ошибка – и всё пошло бы насмарку. И вот, последний слой сошёл, открыв сердцевину клинка… Твердяна с изумлением увидела, что завитки узора на ней закручивались в обратную сторону. Это был узор «Лалада» наоборот.
– Что за… – начала она, подключая сердце к странному «неправильному» узору, чтобы услышать его песню. Песня тоже звучала шиворот-навыворот, и её звук отдавался в груди саднящим эхом, ослепительным и оглушительным, сбивающим с ног.
– Что это? – пробормотала не менее удивлённая Тихомира, хмуря золотисто-пшеничные брови.
– Сдаётся мне, что это – узор «Маруша», – глухо проговорила Твердяна.
Узор этот не использовался при изготовлении клинков уже целую бездну времени: когда сёстры-богини разошлись по разным мирам, узор был тоже изгнан из оружейного дела.
– Лалада и Маруша, – пробормотала Тихомира с задумчиво потемневшими глазами. – Кому-то пришло в голову соединить их снова в этом мече! Не кажется ли тебе, Твердяна, что потому этот клинок и вещий? В нём сведено несводимое…
Твердяна, впрочем, не спешила с выводами. Она отсоветовала любопытной Тихомире пытаться воспроизвести запретный узор на стальной пластинке, и не зря: сердцевину меча нельзя было даже взять голыми руками – волшба, казалось, впивалась в ладони ядовитыми шипами. Но Тихомира не послушала: так сильно ей хотелось попробовать и увидеть, что из этого выйдет. Однако, едва взявшись за дело, она схватилась за грудь, с хрипом пошатнулась и рухнула на пол.
– Нет… Сердце не выдюжит, разорвётся, – с кашлем вырвались из её горла слова, когда она немного пришла в себя. – Как же государыня сумела создать такое, когда ковала свой меч? Ума не приложу…
Твердяна не рискнула повторить опыт Тихомиры. С сердцевиной они провозились много дней, сращивая жилы узора: прогон силы по ним изматывал до мертвящего жжения в груди, почти до обморока, и долго работать на грани разрыва сердца не получалось при всём желании. Песня узора надрывала душу: казалось, это кричало от боли небо со всеми звёздами, вся земля и вода…
– Не знаю, как ты, а я больше не могу, – простонала Тихомира. – С ума сойти можно…
– Отдохни пока, а я сама поработаю, – ответила Твердяна.
– Нет, так дело не пойдёт, – устало покачала головой северянка. – Одна ты замертво упадёшь. Отложим до завтра.
День за днём они понемногу выносили эту муку, надрывая себе сердца и оседая на колени около наковальни почти без чувств. Когда они, смертельно измотанные, приползали из кузни домой, Твердяна черпала отдохновение в тревожно-ласковой глубине глаз Крылинки и в хлебном тепле её рук, а Тихомира любила слушать шелест сада. А порой, когда в гости заглядывала Дарёна, она внимала её песням, и при этом её глаза цвета мышиного горошка заволакивались горьковатой дымкой, устремляясь взором к снежным вершинам гор.
– Вот слушаю я, и мнится мне: бьётся моё сердце, покуда она поёт, а едва смолкнет – и сердце остановится, – как-то раз задумчиво призналась она Огнеславе, когда они стояли вдвоём у открытого окна и смотрели в сад, где Дарёна, напевая, помогала матушке Крылинке, Рагне и Зорице полоть грядки.
– Гляди, не влюбись, – усмехнулась княжна-оружейница. – Была б она девица свободная, тогда ещё ничего, а то ведь – чужая жена. Да ещё и с дитём в утробе.
– Сердцу доводы рассудка неведомы, – вздохнула Тихомира, устремляя полный нежной тоски взор в сад и сквозь пшеничный прищур ресниц любуясь присевшей около грядки Дарёной. – Да полно, не беспокойся. Думаешь, я стану к ней в душу вторгаться и покой её рушить? Нет, ни словом, ни взглядом не потревожу. Но слушать её для меня всё равно что воздухом дышать – так же необходимо.
Голос Дарёны весёлой пташкой порхал с ветки на ветку, бабочкой летал в цветнике, солнечным зайчиком беспокоил и щекотал сердца слушательниц. С его звуками в души вливался свет радости, а печаль и тревога высыхали, как роса в полдень, и понемногу около ограды собирались соседки, привлечённые и очарованные песней. Певица, заметив это, застенчиво умолкла, но её стали уговаривать:
– Просим тебя, пой ещё! Любо нам тебя слушать!
Дарёна не могла отказать, и песня целительно заструилась вновь. Расправив крылья, она взмыла в облака, потом камнем упала на дно ручья и устремилась вдаль юркой серебряной рыбкой, разгоняя печаль поникших ив. А певица, ловкими пальцами дёргая пырей и осот, то и дело загоралась смущённым румянцем в перекрестье стольких зачарованных и восхищённых взглядов. И это она ещё не видела глаз цвета мышиного горошка, что с ласковой грустью смотрели на неё из окна…
Наконец все жилки узора на сердцевине вещего меча срослись, и порядком измученные оружейницы смогли заключить её в стальную болванку. Но их ждала новая странность: сколько они ни нагревали её, та оставалась холодной. Вот уже полдня непрерывно полыхал огонь в горне, а болванке хоть бы хны!
– Чудеса в решете! – озадаченно скребя затылок, проговорила Твердяна.
Может, причиной такой зловещей невосприимчивости к теплу стала леденящая сила имени Маруши, заключённая в узоре, а может, и что-то иное, но как бы то ни было, лишь к исходу третьих суток болванка начала понемногу нагреваться. Когда она достаточно раскалилась, её вынули из горна, остудили, и Твердяна взялась за молот сама, готовясь бить. Что-то подсказывало ей, что Тихомиру лучше отстранить, хотя та и рвалась нанести удар, раскалывающий болванку на половинки.
– С этаким узором надо поосторожнее, а то мало ли! – сказала Твердяна. – Лучше я сама, а ты отойди-ка в сторонку.
От удара молота из молниеносно образовавшейся щели брызнули белые искры, и Твердяна вскрикнула, ослеплённая как будто бы сотней ледяных игл, вонзившихся ей в глаза…