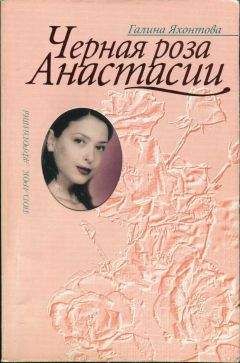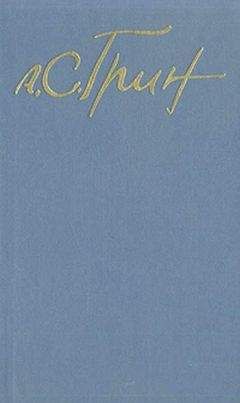Она положила трубку.
— Я слышала, что вы упоминали мое имя. — Тактичная экс-балерина была вся внимание.
— Да, Зоя Степановна. Кажется, вечером у нас будут гости. Вы поможете мне подготовить стол?
— С радостью, — ответила не то домработница, а не то и приживалка.
Анастасия вспомнила, что ее имя переводится как „жизнь“, и вздрогнула от смутной ассоциации. Она вернулась в спальню и села за стол. Только он мог спасти ее. „Поэт должен быть сквозным…“ По капельке, как чернила из авторучки, она выдавливала свою беду. По буковке выписывала горе, отпускала его навечно в стихи. В то, что, как она надеялась, переживет ее… Хотя бы ненадолго.
Ближе к вечеру Настя надела черное мягкое платье фирмы „Джессика“, которое Евгений подарил ей в день, когда она сказала ему „да“. „Зачем я тогда согласилась? Какой в этом был смысл? Ровным счетом — никакого. Как и вообще в человеческом существовании. В мгновенной перед лицом вечности и насквозь запланированной жизни. Мой ребенок, плоть от плоти моей, жил всего лишь день — как бабочка, о которой писал Набоков… А соседка Наталья Николаевна доживает сотню лет. И разве есть разница? В чем?“
Ее малыш… Должно быть, он стал ангелочком, раз, как видение, сопровождает ее.
Она чувствовала себя неуютно в доме, ей хотелось вернуться в больницу, в белоснежную послеродовую палату, куда, должно быть, тоже приходит его душа.
Сестра Варвара рассказывала, что незадолго до Настиных родов в больнице умерла родильница. А ребенок, к счастью, остался жив. Близкие покойной, поглощенные скорбными хлопотами, не смогли вовремя, по истечении недельного срока, забрать младенца. Он обитал еще несколько дней в детской палате вместе с другими новорожденными. И ровно в полночь, как утверждали очевидцы — дежурные медсестры, у кроватки, где спал несчастный малыш, появлялся белый светящийся столб. Казалось, он наклонялся к ребенку и гладил его по головке. А потом растворялся, никому не причинив вреда. По прошествии девяти дней после смерти женщины призрак перестал появляться. Наверное, как пишут, душа претерпела дальнейший распад и пустилась в новые земные странствия — до сорокового дня.
Анастасия тоже ощущала эти барьеры: девять дней, сорок… Она чувствовала присутствие ребенка, словно он все еще толкался у нее в животе. Она ощущала, что под ее сердцем бьется еще одно, крошечное сердечко…
— Анастасия Филипповна, я разморожу мясо?
— Да, разморозьте…
— Может быть, вы спуститесь, я хочу обсудить с вами меню.
— Хорошо, сейчас спущусь…
Ах, как она ненавидела лестницы! Всей своей измученной душой!
И вот она готова к приему гостей. К первому приему с тех пор, как… Каштановые волосы гладко зачесаны, высокий лоб открыт. С такой прической Настя напоминала венецианок со старинных портретов. Платье цвета торжества и траура. Колготки с бархатной набивкой на щиколотке — тоже черные, но тончайшие, а потому очень нарядные. И туфли. Те самые, итальянские, с каблуком рюмочкой и пряжкой. Она была в них, когда познакомилась с Евгением. Будь он неладен, тот день, когда она испортила жизнь хорошему человеку, вкрутив его, как в мясорубку, во все свои злоключения.
А ведь они могли быть так счастливы, если бы… Может быть, кто-нибудь наложил на нее проклятие? Может быть, нужно нанести визит ясновидящему? К Игорю? Но ведь он и так увидел бы, узрел подобную „печать“ на ее судьбе. И сказал бы.
Нет, это не проклятие, а сама судьба…
— Настенька, как ты замечательно выглядишь! Ну просто мадонна! — Настя не слышала, как вошел Евгений.
— Нет, Женя, мадонны из меня не вышло…
— Прости, я не сообразил. — Он смутился.
— Ничего, бывает…
В последнее время Настя чувствовала себя так, словно лишилась какой-то оболочки, тонкого хитинового покрова. Ее душу больно ранили, казалось бы, самые безобидные слова.
— Ребята вот-вот подъедут.
— Так кого же ты все-таки пригласил?
— Увидишь! А стол вы приготовили замечательный.
— Это все Зоя Степановна. Я предлагала ей остаться и поужинать с нами, но она отказалась наотрез. Сослалась на то, что не одета к торжеству.
— Да, она ушла. Я встретил ее в дверях.
„Смена караула, — подумала она. — Сторожат, словно я не могу, закрывшись в спальне, тихонько отравиться или повеситься, несмотря на их недремлющие очи… Как глупо! Ведь себя страхуют, свою совесть спокойную, а не меня. И балерина потому все время меня окликает и тревожит. Кричит: „Спуститесь накрыть стол?“, а я слышу: „Вы там живы?“ Стол все равно накрывала она одна. А я только стояла и смотрела…“
За окнами послышался шум мотора. И сигнал: долгий, какой дают таксисты, подкатившие с молодоженами в салоне к ресторану.
— Приехали, Настюша! — Пирожников смотрел в окно.
Она тоже выглянула, но никого не увидела. Только „вольво“ белого цвета.
„И почему это все его дружки так любят ездить на „вольво“?
„Дружки“ не заставили себя долго ждать. Из машины вышел Коля Поцелуев с неизменным „пайковым“ пакетом. „Тоже мне сюрприз — Коля Поцелуев. Да он названивает не реже, чем раз в день!“ Николай, поставив пакет, галантно открыл другую дверцу и подал руку… Марине! Она вышла, осторожно держа букет белых (хорошо, что не алых) роз и еще что-то плоское, похожее на коробку конфет.
Когда Настя вошла в гостиную, Марина уже сняла шубку (песцовую!) и причесывалась перед зеркалом. Подруга была одета в светло-серое, очень элегантное платье, с первого взгляда на которое было заметно, что эта вещь „от кутюр“. Марина заметила Настино отражение рядом со своим.
— Настенька! Как ты похудела.
— Да уж, похудела…
И в этой невинной реплике раненый слух сумел расслышать трагический смысл.
— Но все равно красивая! — воскликнула Марина.
Понятно было, что она не улавливает напряженности, слишком занятая собственными ощущениями.
— Ты… с Николаем?
— Мы все расскажем. Все! Когда сядем за стол. Мужчины как раз пошли на кухню, там порезать кое-что, разложить на тарелки.
— Стол накрыт. Он полон.
— Ну и что же… Чем больше блюд, тем лучше.
Настя заметила, что Марина очень изменилась. И не внешне, а в поведении: в ней появилась всепоглощающая страсть приобретать, тратить и купаться в роскоши. Саму Настю подобный недуг, к счастью, миновал…
— Ты очень изменилась, Марина.
— Ха-ха! Я так рада, что это заметно. Да, вот — розы. Тебе! Поставь, пожалуйста, в вазу. Их, между прочим, доставили утренним рейсом из Греции.
Цветы пахли белым мрамором древней Эллады. Казалось, что они выросли на ступенях Акрополя, занесенные туда пеной от волны, вынесшей на берег из пучин морских Афродиту. Богиню любви.