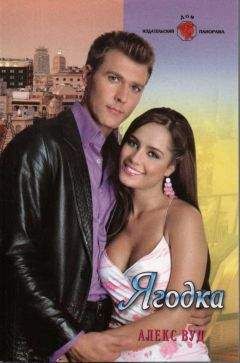Дарёна зябко съёжилась на сене под звёздным взглядом ночного неба, придавленная тяжестью этих новых истин. Млада рассказала о многом немногими словами, за которыми стояло нечто невыразимое, не поддающееся описанию человеческим языком.
– Обними меня, ладушка, – шёпотом попросила Дарёна. – Что-то холодно мне… И страшно.
– А чего страшно-то? – Млада прижала её к себе, ласково усмехаясь в полумраке.
– Трудно, наверно, быть богом… В голове не укладывается. – Дарёна потёрлась своим носом о нос супруги, чувствуя тёплую щекотку дыхания. – А Инеявь… Какая она?
– Я там не успела побывать, меня потащило домой, в своё тело. – Млада смотрела на неё колдовски-пристально, мерцая искорками в глубине потемневших глаз.
Лето плыло в облачной выси, то опаляя землю зноем, то дыша дождливой зябкостью. Млада вернулась на службу, но лесной домик по-прежнему стоял пустым: они с Дарёной решили туда отселиться лишь тогда, когда в доме Твердяны станет совсем тесно от детишек. Гораздо веселее было жить одной большой и крепкой семьёй, члены которой всегда поддержат друг друга, утешат, помогут, подставят плечо.
Месяц зарев дохнул предосенней прохладой, разбросал по небу сполохи зарниц, а в саду ветви клонились от урожая. Женщины дружно чистили и резали яблоки для пирога, а Зарянка крутилась тут же, на кухне, то и дело выпрашивая у Дарёны кусочки. На окно опять села белая голубка, повернула голову и внимательно посмотрела глазом-бусинкой на Крылинку. Та на миг застыла, перестав снимать с румяного плода кожицу кучерявой стружкой.
– Ну, лети, лети, милая, – сказала она птице. – Знаю. Ладе моей привет передавай.
Из её груди вырвался вздох, и Дарёне вдруг стало зябко и неуютно. За пирогом собралась вся семья, говорили о делах, об урожае, о детях, и скоро эта тревога забылась в обычной домашней кутерьме.
Отзвенело на нивах золотое жито – до последнего зёрнышка перекочевало в амбары. Зарядили осенние дожди, тоскливо и пусто стало в поле, да зато в закромах – полно. Пришла пора свадеб, и Шумилка окончательно распрощалась со своей молодой свободой; на гульбе они с хмельными кошками-холостячками напоследок отчебучили – стащили со сторожевой башенки набатный колокол и утопили в реке.
– Какого рожна вы это сделали-то?! – допытывалась Горана у дочери и её приятельниц, когда те проспались.
Те только чесали в затылках.
– Да леший ведает… Колокол народ собирает своим голосом, так мы хотели узнать, сплывётся ли рыба на его звон.
– Как же вы его утащили вдесятером?! – недоумевало собрание. – В нём же триста пудов весу!
Озорницы лишь разводили руками. Одним словом, дурное дело – нехитрое, во хмелю и море по колено, а на трезвую голову оставалось только охать да дивиться тому, что в подпитии сотворено было. Положение выходило щекотливое: дочка самой старосты провинилась, какое наказание на неё накладывать? Свадьба на носу всё-таки… Горана рассудила строго, но справедливо: после праздника всем проказницам во главе с Шумилкой предписывалось достать колокол из реки и водрузить на место.
– Как снимали – так и подымайте назад.
Все с этим согласились. Свадьбу гуляли всем Кузнечным, даже работа в кузне встала на несколько дней; пожаловала в гости и начальница Шумилки, Радимира, и даже сама Лесияра заглянула ненадолго, чтобы пожелать счастья молодым и вручить подарки.
Пролетела белокрылая зима, и войско весны пробило ледяную корку острыми копьями подснежников. Сад оделся кружевной духмяной дымкой цветения, яблони с вишнями стояли точно молодые невесты. Тёплым вечером, полным янтарных брызг заката на белых лепестках, матушка Крылинка завершила домашние хлопоты и сняла передник, но отчего-то не повесила его на гвоздик, а отдала Дарёне.
– Ну, вот и всё. Можно идти на отдых, – сказала она и вздохнула полной грудью, точно стряхивая с плеч многолетний груз усталости.
Дарёне долго не спалось, и она, чтобы утомить глаза, села вышивать при лучине. Стрелки украшенных самоцветами часов, подаренных княгиней Шумилке с Лозой на свадьбу, показывали два; Дарёна потёрла отяжелевшие, слипающиеся веки пальцами и наконец отложила работу. Подросшие дочки уже не просили грудь ночами и крепко спали в своих постельках. Чувствуя во всём теле сонную истому, Дарёна устроилась под боком у супруги и улыбнулась, когда рука Млады обняла её.
Пробудилась она раньше всех – ещё солнце не касалось своими первыми лучами небосклона. В торжественной предрассветной тишине Дарёна вышла в сад и умылась из дождевой бочки, прогоняя нервную дрожь от лёгкого недосыпа. Как же сладко пахло весенним цветением! В предчувствии зари деревья благоухали так, что запах вливался густой пьянящей волной в открытое кухонное окно. Дарёна затопила печку и поставила тесто на оладьи. «Пусть матушка Крылинка отдыхает, а работать будем мы, молодые», – думалось ей.
Вскоре поднялась Рагна и отправилась в коровник. Войдя в кухню с подойником парного молока, она с удивлением сказала:
– Небывалое дело! Матушка Крылинка ещё не на ногах?
– Устала она вчера, пускай отдыхает, – отозвалась Дарёна, вымешивая тесто и готовясь к выпечке.
– Я к ней всё-таки загляну, – проронила Рагна. – Мало ли…
Дарёна шлёпнула на блюдо первую шестёрку румяных, поджаристых оладушек, когда супруга Гораны прибежала обратно в кухню – перепуганная, вся в слезах.
– Матушка Крылинка… не просыпается, – выдохнула она, прижимая трясущиеся пальцы к губам.
Словно подхваченная холодными крыльями, Дарёна бросилась в супружескую опочивальню Твердяны. Матушка Крылинка в глубоком покое лежала в постели на спине, и чуть приметную тень улыбки в уголках её губ озарял первый проблеск зари. Её голова была слегка повёрнута набок, навстречу дышавшему в окно яблоневому дурману, а на неподвижной груди Крылинки, чуть выше спокойно сложенных рук, лежало белое голубиное пёрышко.
Тающим сугробом Дарёна осела на колени, зарывшись лицом в передник матушки Крылинки, который та отдала ей накануне вечером. Он пропах кухонным чадом, дымом и стряпнёй, и слёзы терялись в нём.
Подошедшая Горана обняла рыдавшую рядом Рагну за плечи и мягко отстранила от постели, склонилась над матерью и пощупала губами её лоб.
– Уже остыла… Отлетела её душа, – с задумчивой печалью молвила она. – Тихо ушла, во сне. Младу дождалась, Шумилку женила – и отправилась на покой, следом за матушкой Твердяной.