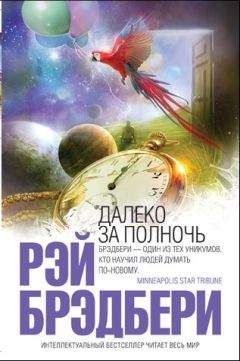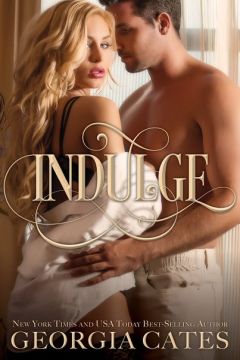— Мить, — сказала я и прижала щенка к себе, — Меня, конечно, дома убьют…
— Скажем, что это я тебе подарил на день рождения, — и он полез в карман за пятеркой.
И правда, дома едва не убили. Самовольница, навязала не шею семье живое существо…Никто, видимо, не думал, что о собаке я мечтала всерьез. А теперь вот он, зверь, стоит, широко расставив лапы, и прудит лужу.
— Кончилась моя спокойная жизнь, — повторяла бабушка, — А я мечтала, когда выйду на пенсию…
Это была вечная присказка, и бабушке не стоило лишний раз повторять, о чем она мечтала — я это знала наизусть. Вязать она мечтала — вволю, плести спицами узоры из разноцветных ниток. Растить цветы в саду — тюльпаны, ромашки, розы…
В ней сочеталась жажда заработать лишнюю копейку к крошечной пенсии в сорок шесть рублей: «Мы люди тэмни, мы любим гроши» — это была ее фраза. С удивительной бесшабашностью и легким отношениям к этим деньгам — кровь ли польских дворян говорила тогда в ней? Она дарила знакомым не только букеты, но и свитера, над которыми сидела по месяцу. А деньги, заработанные стоянием на рынке с теми же цветами — весь день, летний, жаркий — деньги эти она ссыпала мне в руку:
— Поди, купи самых лучших конфет.
Дедушка, в конце концов, проявил привычную для него разумную строгость. Хорошо, пусть будет собака — внучка отличница, заслужила. Но четвероногое существо должно жить на улице и порога дома не переступать!
Только если на улице был лютый мороз, и ветки деревьев казались отлитыми из черного стекла и хрупкими, а пар, идущий изо рта, был густ и осязаемым — это уже за минус тридцать мороз — только тогда Дику дозволялось переночевать в маленьком коридорчике.
Он заболел — тяжко. Мы водили его к ветеринару. Он еле шел. Врач определил воспаление легких, назначил уколы. Но дедушка так и не разрешил впускать Дика в дом, овчар жил в будке, куда я готова была переселиться, и укрывать его своей шубой.
С тех пор мне щемяще жаль животных, как никого из людей. И нынешний пес мой — тоже палевый, но никакой не овчар вовсе, а американский спаниель — спит у меня в ногах, а иногда, окончательно обнаглев, пробирается, и устраивается головой на подушке.
…Когда Дик пропал, мне сказали, что он убежал на собачью свадьбу. Это был такой счастливый вроде бы финал. Убежал и пропал, и может быть, даже умер — от любви.
Я тосковала — выйти на веранду, и не увидеть его, несущегося навстречу, прыгающего, чтобы взбросить на меня лапы, жарко и торопливо дышать в лицо, облизывать так же торопливо, упиваться счастьем от того, что я есть.
Каково же было мое изумление, когда несколько дней спустя, я увидела идущего по улице Митю с Диком на поводке.
Митя к тому времени — а нам уже исполнилось по четырнадцать — стал удивительно хорош собой. Я знала, сколько девчонок на него заглядывается. Высокий, смуглый, летом голову он по-пиратски повязывал платком. И вот он идет, такой весь корсар, и рядом с ним на поводке — мой пес.
— Митька! Где ты его нашел?
Но никогда я не могла ожидать того, что услышу.
— Его продали. Твои. На хоздвор. За телегу навоза. Валька его нашел. А сегодня ночью мы его оттуда свистнули.
С той минуты я поверила, что предать могут и самые близкие. Верно, бабушка боялась, что Дик сорвется, помнет ее цветы — и в очередной раз взыграла в ней практичность. И потом так легко, вдохновенно врала мне…
Мы сидели под лодкой, и я все доказывала, что надо отдать хозяевам этого двора скопленные мной деньги, а дедушку с бабушкой устыдить, что я без Дика жить не смогу. Что нельзя продавать тех, кого любишь.
— Но они то — не любят. И они его опять продадут, — возражал Митя, — Раз один раз смогли — все. Продадут еще дальше, и мы его потом не найдем. Я его лучше заберу. Мама не против. У нас с ним ничего не случится.
И он был, конечно, прав. Дик перенес разлуку легко. Он давно знал и любил Митю. Тетя Нина скоро уже души в нем не чаяла. Овчар был допущен в дом, и часами лежал на кухне, положив голову на лапы, смотрел, как тетя Нина готовит или шьет. Ловил на лету кусочки печенья и колбасы. С ним разговаривали — подолгу, то нежно, то ворчливо, ворошили пальцами рыжую шерсть на затылке. Скоро он слушался Митю уже с полуслова.
А у меня навсегда осталось чувство, что у меня был — был! — свой ангел-хранитель. И его продали. Ангелов, оказывается, тоже можно продать.
Плывем и летим
Наш пляж… Он чуть ниже ГЭС, и постоянно тут — приливы, отливы… Мы лежим на крупном, почти белом песке, пересыпаем его в ладонях. И Дик валяется тут же, чуть повыше, в тени ивы, и смотрит на нас, и улыбается во всю пасть, радуясь, что он — с нами. И то же время мы глупы в его глазах — как можно печься на солнце, если есть тень? Но любимейшая минута для него, когда кто-то идет купаться.
— Эй, у тебя водолазов в роду не было? — спрашивает Митя, вороша песью шерсть.
Дик — водоплавающая собака. Он несколько раз упоенно, стрелою, проносится по берегу — не дай Бог оказаться на его пути, снесет. Это он счастлив, что предстоит долгий заплыв. А потом, поднимая фонтан брызг, бросается в Волгу, навстречу волнам.
Я боюсь идти в воду, и Митя дает мне руку. Он хочет завести меня на глубину, знает, что плавать я умею. Немного, но умею. Но я вырываюсь — не могу преодолеть ужаса, когда перестаешь чувствовать дно под ногами — и Митя уплывает один. Он помнит здесь все течения, и если хочет доплыть до дальнего острова, то знает — в каком месте войти в воду, чтобы снесло точно туда.
Все, нет их с Диком, уплыли, уже и голов не видно.
А Вальке мало надо. Он зайдет в Волгу по колени, закинет руки за голову. Ветер овевает худенькое мальчишечье тело, Валька будто впитывает его, потягивается.
— Господи, как же здесь хорошо….
А потом он идет на мостик, ведущий к дебаркадеру, и я за ним. Шлепаем босыми ногами по длинным, теплым, пружинящим от каждого шага доскам.
Валька, оказывается, хочет посмотреть, как нарастает глубина, как меняется цвет воды. У берега она — желтая как чай, но делается все темнее, и вот уже — плывут навстречу ошметки почти черных водорослей, и стайка рыб скользит безбоязненно, они у себя дома…
Взгляд у Вальки на несколько минут становится напряженным, неподвижным — он запоминает цвета.
А потом говорит:
— Ты представляешь, что бы было, если б вся вода из Волги вдруг ушла…
Он может вдруг ярко представить себе такое. А рядом с ним — этому учусь и я.
Реки больше нет. Каньон, метров сорок глубиною. Горы вдруг стали неожиданно высокими, со скользкими черными подошвами. Обнажилось дно — и что оно скрывает? Всякий хлам — нельзя без этого. Но и — затонувшие корабли?
— Тут всяких судов много потонуло, — продолжая мою мысль, говорит Валька, — У меня есть дядька знакомый, старик уже. Он капитаном был, рассказывал, что дважды тонул. А бабка говорила, что в монастыре…там ниже по Волге есть монастырь… После революции с колокольни тяжеленный колокол сняли — ценный какой-то, переплавить хотели. На барже везли, и баржа та вместе с колоколом под воду ушла. Бабка говорила: «Так и не дался большевикам, может, когда-нибудь сыщется».
Мы смотрим вниз. Вода у ног уже совсем темная, дна не видно. Мутная — водолаз ничего не разглядит дальше вытянутой руки. Вот если бы действительно — обмелела вдруг Волга до самого дна — сколько тайн предстало бы нашим глазам?
И то, что сейчас откроется перед Митиным взглядом, если он доплывет до дальних островов, сравнится ли с теми картинами, которые открывает перед нами — воображение?
Парк с аттракционами… Они работают не всегда — то выходной, то что-то сломалось в механизмах, то тетенька, которая отрывает билеты и нажимает кнопку — на больничном.
И счастье, когда еще издали видишь круженье — в разлете сквозь листву — серых и красных кресел.
— Айда на «Ветерок»! Или сперва на «Лодочки»?
«Ветерок» — узкие кресла на длинных железных цепях. Шелковое платье мое скользит — одна надежда на цепочку-пристежку. Карусель сперва несет нас низко над землей, так что босоножки касаются скудной пыльной травы, а потом цепи — вместе с нами — будто вздувает ветром.