— Я знаю, кто ты, — сказала она отчаянно приятным шепотом. — Я знаю. И я с тобой, Зири. Зири, Зири. Я тебя вижу.
А затем она положила голову ему на грудь и позволила ему обнять себя его руками-убийцами. Она пахла рекой и дрожала, словно крылья бабочки на ветру, и Зири укачивал ее, будто она была их последней надеждой на свете.
Возможно, так оно и было.
80
ПРИТВОРСТВО
Звук был близко, и это были крылья.
Кару была уверена, что это, должно быть, Тьяговы когорты возвращаются, и она не пустилась наутек, не стала прятаться. Она застыла на месте, стоя на коленях, в грязи, в щебне, в крови, в блевотине, и облепленная мухами, в ожидании, когда ее обнаружат.
И когда она увидела, кто это был, когда он опустился перед ней, его киринские копыта опустились на камни, разбрасывая их, то в ее шоке не было места радости (Зири был жив, и он был здесь), потому что то, как он смотрел на нее, уничижительно, единственное, что обострило ее шок. Он посмотрел на Волка, а потом обратно на нее. Его челюсть в недоверии приоткрылась; он фактически отступил на шаг назад, и Кару видела ту же самую гротескную картину, что и предстала перед ним. Уничижительную позу Волка, одежду, задранную, скрученную и разорванную, которая давала безошибочное представление о том, что здесь происходило, и маленький нож, лежащий там, где он его бросил, похожий на нож для писем или игрушку.
И она. Дрожащая. Окровавленная. Виновная.
Ей пришлось убить Белого Волка. Если бы она смогла соображать, то не поверила бы, что может быть еще хуже.
Но, ох, еще как может.
Теперь, в ее комнате, она положила свою голову ему на грудь и почувствовала, как у ее щеки бьется его сердце, — все быстрее и быстрее. Теперь-то она знала, что это было сердце Зири, не Тьяго, и она знала, что оно билось для нее — и она попыталась подавить свое отвращение ради него.
Она надеялась, что ее маленькая киринова тень, возможно, станет союзником, но она никогда не могла представить, что это случится.... так.
После того, как первый миг изумления ослаб, Зири рванулся к ней, и он был так осторожен с ней, и так честен, и так добр и решителен — никакого прежнего стеснения, он был весь сосредоточен и целеустремлен. Он обнимал ее за плечи осторожно, но твердо, и заставил ее взглянуть на него.
— Ты в порядке, — сказал Зири ей, когда убедился, что кровь, которой окрашена ее одежда и она сама, не ее. — Кару. Взгляни на меня. Ты в порядке. Он больше тебя не тронет.
— Он может, он станет, — сказала она, находясь на грани истерики. — Он не может умереть, все не может так оставаться. Они заставят меня его вернуть. Он же Белый Волк. Он — Белый Волк.
Все — что было сказано. Зири тоже это знал; у них не было времени на рассуждения — что если. Зири знал, что нужно делать и не мешкал. Кару поняла его намерение, когда он поднял свой нож полумесяцем; она вскрикнула, и попыталась остановить его. Он сказал, что ему жаль.
— Но не себя. Здесь никаких печалей. Мне жаль, что я оставляю тебя одну, на время посреди этого.
Посреди. Посреди тел.
— Нет! Нет! — Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. — Мы что-нибудь придумаем. Зири, ты не можешь...
Но он смог, своей выверенной рукой, и своим очень острым лезвием.
Она держала его, пока он умирал, и его круглые карие глаза были широко открытыми и неиспуганными, и они были милыми, до самого момента, пока не стали пустыми, они были милыми и обнадеживающими, они были такими, какими были в пору его детства, когда он, будучи совсем мальчишкой, повсюду следовал за ней по Лораменди. Вот кем он был, думала она, когда держала его умирающего на своих руках (мальчишкой был — им и остался), и теперь оставался, когда обнимал ее своими обновленными руками. Кару думала, вздрагивая, о мальчике, которого она не предаст. Это было бы нечестно, после принесенной им жертвы, и так жестоко, но это было все, что она могла сделать, не отстраняться как можно дальше, потому что, хотя это и был Зири, его руки принадлежали Волку, и его объятия были преданы анафеме.
Когда она больше не смогла выдержать и секунды, то, использовав предлог, отстранилась. Она полезла в карман и достала из него то, что положила туда несколько дней назад и почти забыла.
— У меня вот, что есть, — сказала она. — Это... я даже не знаю. — Теперь это казалось глупым. Нелепым даже — и что она собиралась с этим делать? Это был кончик рожка, всего пару дюймов в длину, который откололся, когда Зири упал во дворе без сознания. Она не знала, что заставило ее подобрать этот кончик, и вот теперь, когда она протягивала его ему, Кару хотелось, чтобы она его не подбирала тогда. Потому что в его голосе была слышна робость, когда он сказал:
— Оставь себе, — что дало ей понять, что он придает этому слишком большое значение.
— Это тебе, — сказала она. — Я подумала, может, тебе захочется оставить его себе. Он откололся до того, как... — До того, как она сожгла все его останки в пустой могиле? И вновь она почувствовала, будто ее желудок сжимает кулак. Это было лучшее, что она могла сделать, по крайней мере, это была не яма. Никакой ямы для истинной плоти Кирин, слава Эллай, но лишь только так звездная пыль обретала на краткий миг очертание. Было достаточно тяжело кидать грязь с лопаты ему на лицо. Она продолжала думать, что должна была передумать. В конце концов, это касалось только ее. У нее имелось два свеже-мертвых тела. Одно тело она могла возродить. Она могла вернуть душу Зири обратно, к телу, которому та принадлежала; он сделал то, что сделал, и это было храбро, но теперь все было в ее руках. Его душа была в ее руках.
Душа Зири напоминала ветер, бродивший в высоких Адельфовых горах, и биение крыльев штормовиков, словно прекраснейшая, скорбная вечная песня флейты, которая заполняла их пещеры музыкой, которую он не мог вспомнить. Его душа напоминала о доме.
И она поместила ее в этот сосуд. Потому что, как ни крути, он был прав. Это был единственный способ взять под контроль судьбу химер. Через такой обман.
Если бы им только удалось пройти через это.
Это было бы нелегко, даже при обычных обстоятельствах, но сейчас, так скоро, когда они оба не успели оправиться, и не были даже способны обсудить план действий, чтобы пройти через такой испытание, — придется иметь дело с ангелами.
Кару отвернулась и пошла к своему столу. Она поставила стул, который уронила, когда Акива ввалился в ее окно, и она вскочила. Ее лодыжки были так исцарапаны под весом Тьяго, и все ее тело ныло, да так, что казалось, будто оно было зажато в тиски. Но все это будет длиться день, может два; другое же никуда не денется. Проблемы, страшная ответственность, и ложь, которой они будут вынуждены расплатиться, чтобы продвинуться дальше пределов этой комнаты.

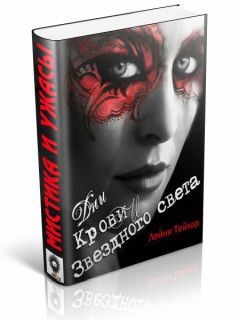

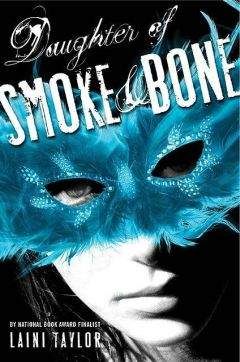
![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)
