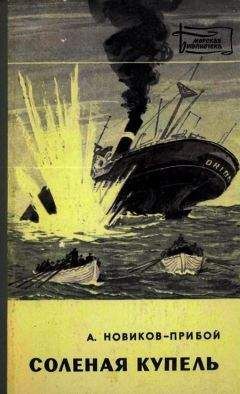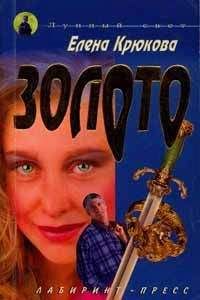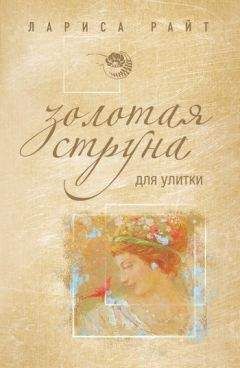– Я верю! – крикнула Фелисидад, и стекла в окнах зазвенели.
– Я тебя лишь об одном прошу, доченька: учись дальше! Не становись танцоркой! Танцорки… они – плохо живут! И марьячис, и танцорки – бродяги беспутные, голь перекатная! Зачем тебе это! Брось!
– Мама, ну вот уже нравоучения.
Фелисидад легко встала с пола. Подпрыгнула. Побила ногой об ногу.
Пошла к двери.
Обернулась.
– Я не верю в эти старые сказки. Но я поеду. Когда захочешь.
Вышла, копна черных волос-колосьев метнулась взад-вперед.
Мать осталась сидеть на розовой, кружевной кровати. Руки во взбухших венах в подол уронила.
Однажды бабушка сказала Рому: давай я тебя окрещу! Что ты, пожал плечами Ром, зачем, это, наверное, лишнее.
Бог был его детской тайной. Высохшей мертвой бабочкой, пришпиленной иглой к вате, к дощечке. Он, сидя над формулами и цифрами, приучил себя не думать о Боге. Как только он начинал о Нем думать – цифры мешались в голове, сознание туманилось, вместо четких знаков на клетчатой бумаге проступали рыбы, птицы, звери, человечьи, бычьи и лошадиные черепа.
Люди везде и всюду говорили и думали о Боге, и это удивляло его. Ему казалось: Бог – то, о чем ни говорить, ни даже думать нельзя.
Нет, нет, настаивала бабушка, это моя вина, что я раньше не спохватилась! Без креста негоже!
Ром согласился. Он во всем соглашался с бабушкой. Он боялся ей перечить, ее обидеть, ранить. Чем старше она становилась, тем больше она представлялась ему его ребенком, девушкой, девочкой. Малышкой. Иногда он даже играл с нею в ладушки. И ему не стыдно было.
Они нарядно оделись и направились в ближнюю церковь, Рождества Богородицы. У церкви густо-синие, как небо в грозу, купола, усыпанные золотыми звездами, а один купол выложен разноцветной черепицей, и оттого напоминал рыбий хвост в красной, желтой, зеленой, голубой чешуе. Рыжебородый подвыпивший священник взял у бабушки деньги. Жадно вырвал из рук. Деньги за крещение. Ром, выше священника ростом, надменно, сверху вниз, покосился. И тут жадность. Где же тогда слава, сила, свет?
Бабушка упала на колени, другие матери, жены и бабушки тоже, это была церковь женщин, распростертых на полу. Лоб и щеки батюшка крестообразно помазал колонковой кисточкой. Теплое масло, и бабушка шепчет: «Елей». Рому окунули голову в алюминиевую купель, вода была холодна и пахла болотом, тиной. Бабушка радостно поднесла чистое полотенце. Крестик на шее, на белой веревочке. Вода с мокрых прядей течет по лбу, по лицу. Глаза просветлели. Крещаемых повели в алтарь, и трижды Ром обходил вокруг алтаря, не понимая, зачем и для чего это нужно.
Ну вот, он принес бабушке радость.
Надо верить в Бога или хотя бы делать вид, что веришь. Так поступают все люди.
Бабушка ковыряла ключом в замке, когда отворилась дверь напротив. Соседка, уперев в бока два кулака, громогласно восклицала: «Ай, и до чего хорошенький мальчик у вас вырос, Зинаида Семеновна! Ай, и до чего славный ты, Романчик, да и умненький такой, сразу видать, умнющие глазки, таки да! Погодь, Зина, погодь чуточек, я щас… постой!»
Через минуту соседка вернулась с кулечком в руках. В кульке золотыми ракушками лежало печенье. Остро и сладко пахло корицей. Печенье с корицей. «Спасибо, вы такая добрая всегда, Фаня Марковна».
Ром прижал кулек к животу. Бабушка старательно улыбалась, показывая все свои начищенные хорошей пастой, фарфоровые зубы.
Они сидели за столом, пили горячий чай с лимоном и мятой, ели коричное печенье Фани Марковны, и Ром тайком потирал лоб – ему казалось, он все никак не вотрет в кожу масляный пахучий крест, начертанный кисточкой священника. Картины со стен молча говорили ему: так надо, все русские люди носят крест, а в землю ложатся – над ними тоже крест ставят.
Деревянный. Чугунный. Мраморный.
Его передернуло. «Зачем я об этом подумал?» Бабушка шумно прихлебывала чай, мелкие цветочки бежали, как оголтелые муравьи, по ее кофте, по юбке, по рукавам. Седые, уже снежные волосы она спрятала под платок. Она еще видела грязную картофелину, но уже обрезала палец ножом. Уже не различала деньги. Священнику она сунула, по слепоте, не сто, а тысячу рублей.
Логика. Подключить логику. Ну, просто спокойно, логически подумать. Поразмыслить.
Человек живет, бодрый, счастливый, молодой, веселый. У него гладкая кожа. У него белые ровные зубы. Без дырок и черноты. У него густо растут волосы в паху и под мышками. Он любится всласть, ест вволюшку, пьет-гуляет. Работает – денно и нощно. Сил – полно!
И вот силы начинают иссякать. Сперва незаметно. Потом все быстрее. Живее, скорей! Утекают. Течет вода. Уходит. Убывает. Обнажается песчаный берег, весь в корягах и водорослях, в мертвых пнях, в пустых ракушках. Человек глядит на себя в зеркало: да, сдал ты, брат! – и начинает гнаться за ушедшей силой. Омолаживается. Бегает по утрам. Выдирает гнилые зубы и вставляет новые, алмазные. Качается на тренажерах. Ест хорошую еду – а ведь в юности жрал все подряд, и ничего! – а сейчас то желудок схватит, то кишки перекрутит. Больные потроха. Больной мозг – плохо, тяжело ворочаются пудовые мысли. Забывает. Запивает таблетку – супом. Кусок селедки – валерьянкой. Тает, исчезает перед слепыми глазами яркий мир. Черные точки плывут. Серые наволочки. Серые больничные, с черными казенными печатями, простыни. Серое ничто.
И что?! Что?!
Тихо, тихо. Не кипятись. Ты математик, физик, думай спокойно. Всегда спокойно думай обо всем.
Это просто мир так устроен. И ты в свой черед начинаешь постигать его жестокое устройство.
Ты зрячий. У тебя ходят ноги. Хватают руки. Но настанет день – и ноги твои не пойдут, и будешь ты сидеть в инвалидном кресле, и спицы огромных колес будут блестеть, и кресло – катиться, и ты – плакать, плакать от того, что катится, вот завтра укатится твоя жизнь. Единственная жизнь.
И что?! Что ты предлагаешь?!
Это закон. Это разрушение. Распад. Сколько костей истлело в земле? Не счесть. Умирают планеты. Звезды умирают. Это знал не только Фламмарион. Просто жизнь звезды такая длинная, длинная. Глаза человека ее не охватят. Ни глаза, ни разум.
Но смерть и к ней придет, к звезде. К каждой!
Он приоткрыл дверь и выглянул в гостиную из своей спаленки. Бабушка спала на диване в гостиной – это было ее спальное ложе, всегда. С тех пор как он себя помнил.
Старуха приоткрыла рот, громко храпела. Ром подумал: он не уснет под столь зычный храп. Нашел вату, вставил клочки ваты в уши. Храп слышался все так же: раскатисто, хрипло, будто в горле у бабушки, как в горном ручье, катались камни, булыжники, галька.
Руки бабушки лежали на одеяле. У ночной рубашки на локтях порвались рукава. Ноги торчали из-под одеяла, и Ром увидел длинные, как у зверя, бабушкины ногти. Сердце у него заболело. «Завтра же постригу ей ноготочки. И заштопаю рубашку. Она же уже ничего не видит. Почти ничего. И выкупаю ее, намою. Сделаю ей теплую ванну. Она будет сидеть в мыльной пене и смеяться, как ребенок».