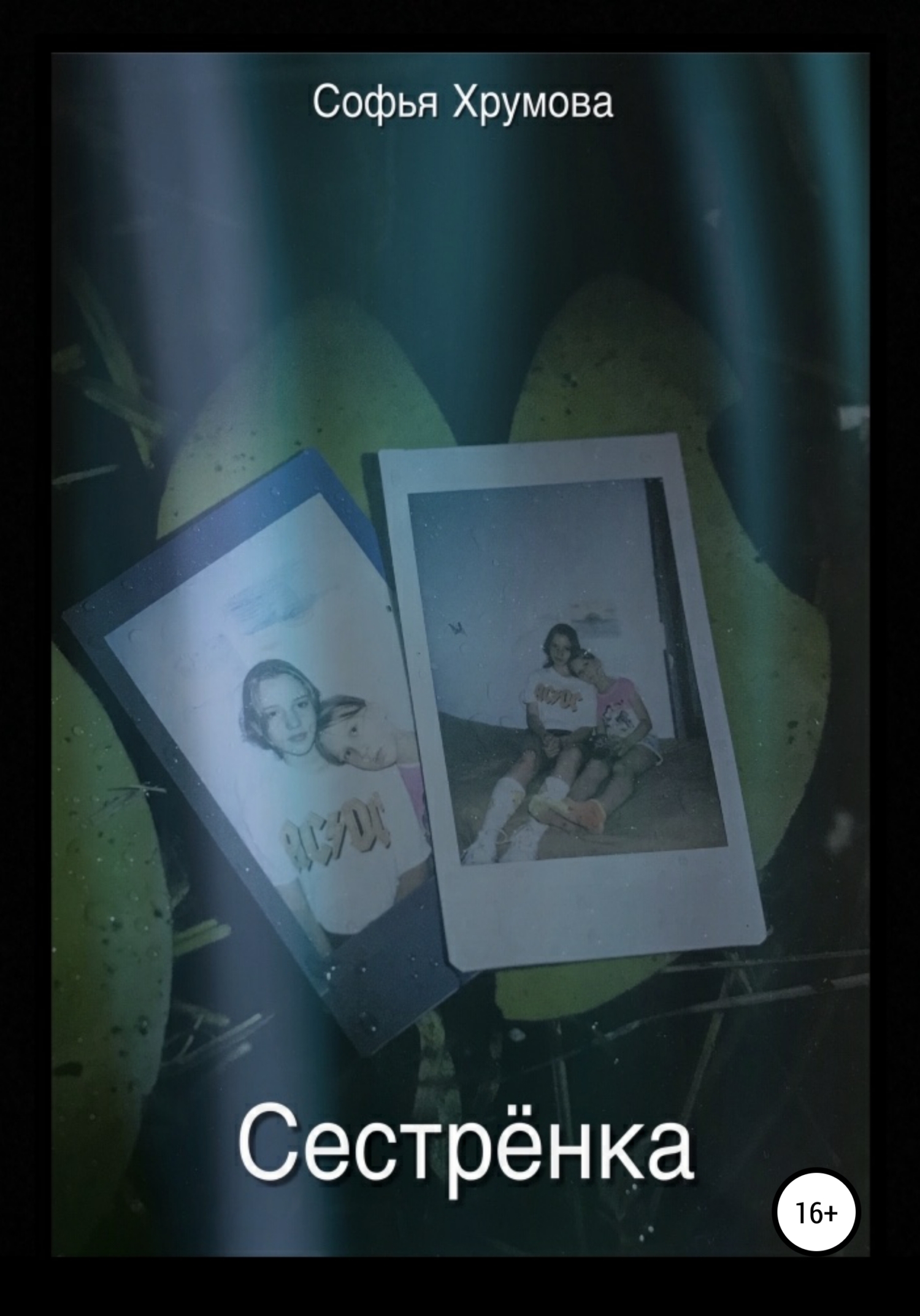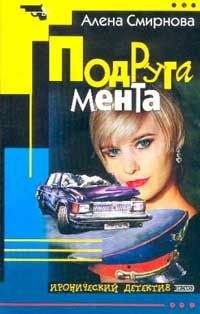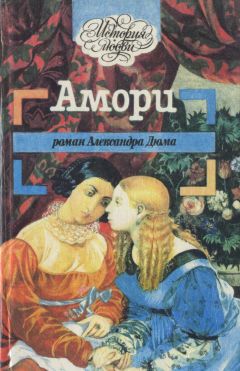Что происходило дальше – догадаться не сложно. Обвинив меня не больше-не меньше – в шпионаже, светило художественной критики, обильно брызгая слюной, закатило фееричную истерику и, громко хлопнув дверью, упылило в закат, обещая раскатать меня в блин, сравнять с тем плинтусом, из под которого он меня вытащил и что-то там ещё, что в таких случаях пафосно орут подобные ублюдки.
Наконец, оглушающий до звона в ушах визг прекратился и навалилась такая же оглушающая тишина. И пустота.
С неимоверным усилием выбираясь из эмоциональной ямы, я ещё пыталась творить. Но в таком упадническом настроении сложно создать хоть что-нибудь стоящее.
Выставки, запланированные на месяцы вперёд, проваливались одна за другой – Николя свято держал данное мне на прощание слово.
И я погасла…
Были ещё попытки вернуться в творчество. Безрезультатно. Как художник Елена Смирнова просто перестала существовать. Отношения с противоположным полом тоже прикрылись “жирным крестом”. Хотя здесь, возможно, я и сама виновата. Последнее представление Николя оставило столь яркое впечатление, что я непроизвольно шарахалась от любых попыток возможных кавалеров проявить ко мне интерес.
Потом было рабочее место в областном театре, иллюстрирование детских книжек и много чего ещё. Но даже восторженные отзывы о «чудесных, исторически точных костюмах, полностью отражающих нравы эпохи» не смогли вытянуть меня. Мне было все равно…
На память о трех годах работы в театре осталось только большие папки с эскизами костюмов эпохи Марии-Антуанетты и куча разрозненных знаний о ней самой, о тканях и отделке, о красках и вышивках и такие же папки с работами о Викторианской эпохе Англии. Это были любимые мной и хорошо изученные времена…
И после того самого, нашумевшего, спектакля я уволилась – слишком бурным и активным было театральное общество, слишком много интриг, разговоров и суеты. Не знала, куда себя приткнуть, пока не оказалась в этой чудесной школе в окружении юных дарований.
Глава 2
Наверное, здесь – рядом с ребятишками – я просто пыталась “согреться”. Жизнь потеряла краски, я постоянно хандрила, цепляла болячки. Врачи, к которым обращалась, разводили руками: мол, падение иммунитета, вследствие стресса – обычное дело. Все, как один, диагностировали мне клиническую депрессию.
Поэтому, я не удивилась, что в числе первых загремела на больничную койку от модной в это время мировой напасти. Пока первые доктора изобретали схемы лечения, а первые пациенты справлялись с вирусом за счёт собственного иммунитета, я лежала под кислородом, открывая глаза только на голос медсестры.
И с каждым разом все хуже и хуже понимала, что она говорит. Мне казалось, что я просто засыпаю…
– Мадлен…Мадлен!.. По-моему, эта бледная немочь выглядит немного получше, как ты считаешь, ягодка? – голос, порожденный моим воспаленным сознанием, звучал крайне неприязненно. Даже брезгливо.
– Тётя, по-моему, она всегда так выглядит, даже когда здорова. – послышалось мелодичное хихиканье и я, всё-таки, решила через силу открыть глаза с мыслью: «Неужели бред может быть таким отчетливым?»
К великому удивлению, глаза открылись легко, а на лице не было кислородной маски. Неужели стало лучше? Сердце радостно подпрыгнуло – дышалось мне легко. Потому что, не смотря на все мои печали, захотелось жить дальше, и, возможно, даже – долго и счастливо.
Сфокусировав зрение, не увидела ни больничных стен, ни аппаратов. Я находилась в какой-то комнате, которая больше была похожа на декорации к историческому фильму: кровать с невзрачным балдахином, покрывало тоже на вид сильно отличалось от больничного – стеганое большими ромбами – оно имело совершенно безвкусную расцветку. Какой интересный бред.
Краем глаза заметила некое шевеление и перевела взгляд вправо. Рядом с кроватью стояли две женщины. Нет, простите – дамы. Мозг тут же безошибочно определил наряды, как относящиеся к предреволюционному периоду. Я всмотрелась в высокие прически-пуфы… Ну, точно — исторический спектакль относится к временам Марии-Антуанетты.
С профессиональным интересом рассмотрев крой и ткани платьев, поражаясь качеству и проработке костюмов, перевела взгляд на лица.
На меня изучающе смотрела очень привлекательная девушка с почти смоляными локонами и карими глазами, идеальной формы носиком и маленькими пухлыми губками. Не смотря на модельную внешность, выражение лица было крайне неприятным и презрительным.
Взглянула на вторую: пожилая дородная женщина, немного смахивающая на французского бульдога, увеличенного раз в шесть. Короткий нос, тонущий среди морщин и складок лица, неряшливо обвисшие брыли, и без того узкие губы сжаты «в ниточку». Женщина протянула руку и коснулась моего лба холодной неприятно-влажной рукой. Я невольно ойкнула и осознала, что это вовсе не бред.
Женщина одернула руку и зашипела на меня:
– Фу ты, напугала…
В панике посмотрела на свои руки – они были чужими. Потом этими же чужими руками ощупала своё лицо. Вернее, оно тоже было не моим…
– Господи! – я вскочила с кровати, чем немало напугала уже обеих дам, и заметалась в поисках зеркала.
Молодая девица визгливо запричитала:
– Тётя Марион, что это с ней?! – они отступили на несколько шагов, наблюдая, как я, путаясь в длинной рубашке, не обнаружив зеркала, рванулась к застекленному книжному шкафу.
В пыльном стекле дверок отражалась молодая девушка лет восемнадцати, – почти точная копия той визжащей девицы. Ощупала еще раз лицо, коснулась плеч и убедилась, что в дверце отражаюсь именно я…
Смутно вспомнила прочитанные когда-то фэнтези, в памяти всплыло слово “попаданцы” и тут до меня окончательно дошло, что я фантастически влипла.
Издав протяжный стон, сползла на пол, держась рукой за шкаф. Дамы немного пришли в себя и рискнули подойти ближе. А я стала быстро соображать: если здесь одно лицо с этой манерной визжалкой – значит мы, скорее всего, сёстры…
Возможно, если бы не пыльное стекло, в котором смутно разглядев свою новую внешность, я успела бы наговорить глупостей, как все попаданки во всех романах. Типа – «А кто вы такие?», «А куда я попала?», «Хочу вернутся в свой мир, где у вас главный волшебник?!»
Но сейчас у меня не было возможности наглупить. Две свидетельницы явно не пылали ко мне любовью и не станут рассказывать, кто я такая, где мой принц и как попасть домой. Страх учит соображать быстро!
И, прижав руку к груди, я постаралась сказать как можно убедительней:
– Тётя…- черт, как же её там? – Тётя Марион, всё в порядке, просто показалось, что задыхаюсь, а потом закружилась голова, от того, что резко вскочила… – надеюсь, они не подумают, что в меня вселились бесы, а то положение моё станет совсем незавидным.
Тётушка Марион сжала и без того тонкие бескровные губы и сухо промолвила:
– Ну раз так, ты совсем здорова. Поднимайся с пола и одевайся, провалялась без сознания, как бесполезное бревно почти десять дней. Еще немного и пришлось бы вызывать доктора, упаси Господи от таких трат… – тётя набожно перекрестилась, за ней благочестиво повторила крестное знамение сестра.
– Думаю, тетя, она просто дрыхла все это время!
– Пойдём, Бернардет, детка, – и обе царственно выплыли, больше не взглянув на меня.
– Ага, сестра, значит, Бернардет. Что за имя – как лязг алюминиевого листа? Интересно, что оно означает… Что-то к “детке” отношение совсем иное.
Я присела на кровать и огляделась: комната – обветшалая, обоям и драпировке – лет двадцать, не меньше. В платяном шкафу обнаружилось несколько нарядов, хотя “нарядами” их можно было назвать с большой натяжкой – они скорее напоминали униформу.
Абсурдность ситуации и общая слабость вызывали слезы на глазах.
Пожалуй, мое состояние было близко к истерике… Только вот я совершенно отчетливо понимала, что позволить себе сорваться – не могу ни при каких обстоятельствах! Если вообще хочу выжить в этом безумии – должна стать Мадлен! Хотя бы — на первое время. Делать, что велят, не вызывать подозрений и не отсвечивать…