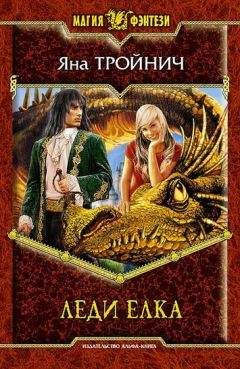и техников-извращенцев. Он ненавидел это так сильно, как только мог ненавидеть, но ничего не мог с этим поделать.
Боги новой эры не просто так считались голосом диро Эласто. Иногда они действительно были им — те из них, тела которых он использовал в качестве аватаров.
Чаще всего Эласто использовал для этих целей Фобоса, конечно — его способности были самыми полезными и при этом лучше всего поддавались контролю. Остальные аватары удостаивались этой “чести” опционально, обычно только тогда, когда у Эласто были на то время, желание и силы — всё же, такой вот контроль требовал работы в очень глубоких слоях вирта, неподвластных большинству простых обывателей.
Танатос не был аватаром уже очень давно.
Нет, с самого начала, только получив возможность управлять аватарами, Эласто увлёкся этим: он мог перехватить контроль над телом каждого подходящего бога в любой момент. То был период, когда он, многоликий, смотрящий глазами богов, только шёл к власти, применяя для этих целей всю харизму, всю внутреннюю силу и волю. При всей своей ненависти к Эласто, Танатос не мог не признать за ним не только амбиций, но и ума, воли, упорства, силы. Это завораживало людей.
По крайней мере, в начале.
Но время шло. Затягивалась война, гасли софиты величия, звучали всё истеричней политические лозунги. Воодушевление, с которым ранее шли за ним его сторонники, сменились страхом и даже обречённостью — те, что были умнее, поняли всё очень быстро; но недостаточно быстро. Сделать уже ничего не могли, связанные по рукам и ногам компроматами, личным участием, экономической зависимостью и круговой порукой. Всё, что им при таком раскладе оставалось из очевидного — идти дальше.
И сам Эласто не оставался прежним. Его бешеная энергетика и фанатичная уверенность в своей правоте, которая когда-то позволила повести за собой миллиарды, постепенно сменялась слепым упрямством, паранойей и прогрессирующими ментальными расстройствами. Он всё ещё считался главнокомандующим, но на деле всё меньше и меньше вникал в происходящее. Неврозы (и способы, которыми он от них лечился) подтачивали его волю, превращая в жалкую тень некогда великого человека.
Жалкую, но от этого ещё более опасную.
Тем не менее, сил на то, чтобы пользоваться аватарами, у Эласто в последнее время было мало. Настолько, что Танатос почти успел забыть, каково это.
Кажется, в последний раз он был аватаром ещё до встречи с Ли.
До книг, пластинок, закатов и поцелуев.
До их планеты.
Но это всё была одна огромная ошибка, ложь самому себе, теперь он понимал это отчётливо. Пир во время чумы, верно? Глупая слабость, за которую теперь придётся платить всем.
Один из политических противников Эласто, которого ещё на заре становления режима выпотрошила Эрос, говорил: “Люди адаптируются ко всему, и в этом кроется как величайший эволюционный выигрыш, так и ловушка. Вы сами не заметите, как привыкнете. К чему угодно. Вы будете жить в чьём-то воплощённом кошмаре, но будете считать его самой нормальной из норм. И я даже не смогу вас винить. Можно ведь жить полной жизнью даже на тонущем корабле, в общем-то. Кто запретит? Но это ровно до того момента, пока все шлюпки не кончились, а вода не сомкнулась над головой.”
Забавно, но Танатос никогда не примерял эти слова на себя. Даже когда придумал себе счастливую человеческую жизнь в вирте. Старательно убегая туда при каждом удобном случае, упорно игнорируя все звоночки, громкие, как сигнал тревоги, он успел забыть своё место и то, что Амано назвал контекстом. Забыть это ощущение беспомощности и полной зависимости. Забыть эту бессильную ненависть. Забыть…
И вот он, этот иллюзорный мирок — осыпается к ногам обломками, пока его тело, более не подчиняющееся ему самому, поднялось на ноги, небрежно стряхнув с себя спасателей.
Танатос никак не мог на это повлиять, не мог сделать совершенно ничего. Он провалился в равнодушную пустоту, завернулся в неё почти что с облегчением, малодушно не желая ни во что вникать. И лишь один вопрос, заданный его губами и его голосом, заставил всё же вернуться в реальность.
— Что с моим племянником?! — от ярости, которую Эласто не считал нужным контролировать, у всех присутствующих медтехников пошла носом кровь. Кто-то особенно впечатлительный даже хлопнулся в обморок… Ну это он, конечно, зря.
— Выкиньте этот мусор в космос, — приказал Эласто. — Миру генетической правильности не нужны слабые. И те, кто имеет наглость спать в присутствии своего Канцлера…
— Согласен, дядя. Ты давно не заглядывал, потому персонал окончательно и бесповоротно распоясался. Мне показалось, или ты искал меня?
Наверное, впервые в жизни Танатос вполне искренне порадовался, что его телом управляет кто-то другой: у него самого имелись все шансы сползти на пол от облегчения.
Амано был жив. Жив.
Выглядел, конечно, ужасно. Танатосу даже смотреть было больно на сломанную в нескольких местах руку, зафиксированную допотопным способом, скованную походку и гематомы. Он мог бы поклясться: Амано привели в сознание, чтобы проверить когнитивные функции, и он тут же сбежал из медкапсулы, наплевав на все противопоказания, на последствия недолеченных травм и возмущение медтехников.
Он спешил исправить ущерб, нанесённый им, Танатосом. Его беспросветным идиотизмом и неспособностью сделать то, что должно быть сделано.
— Амано, — Танатос буквально почувствовал, как его-чужой голос немного смягчается, а приступ ярости отступает приливной волной. — Что ты тут делаешь в таком виде?
— Минимизирую ущерб, — ответил Амано. — Как я могу лежать в модуле, когда всё произошедшее — моя вина? Я отвечаю за этого бога. И не увидел проблемы заранее. Кто виноват, если не я? Флагман, жизненно необходимый нам, повреждён, и я понимаю всю сложность текущего положения, стратегическую в том числе. Я приму любое наказание, дядя. Я заслужил его.
Эласто повёл плечами, рассматривая израненного Амано. Будучи в теле Танатоса, он мог с большой долей вероятности ощущать искренность собеседника — и Амано, разумеется, говорил чистую правду.
Говорить правду и одновременно лгать в глаза — в этом диро Амано никогда не было равных.
Канцлер Альдо колебался пару мгновений, глядя на племянника, а после обуздал энергетическое поле Танатоса, свернул его, как плащ, чтобы не ранить Амано ещё больше.
Кого-то другого Канцлер за такую ошибку без сомнений убил бы, причём особенно интересным способом. Но Амано был сыном старшей и безумно любимой сестры Эласто. И, пусть любовь Канцлера порой проявлялась в не менее ужасных формах, чем ненависть, следовало признать: Амано, чьё лицо сконструировано по образу и