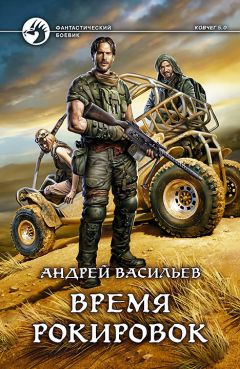обведя вокруг мутным, скитающимся взглядом, он остановил его на приятеле и, помолчав ещё немного, будто не решаясь заговорить, промолвил наконец прежним тягучим, измятым, то и дело прерывавшимся голосом:
– Я это… давно хотел сказать тебе, но как-то… неудобно, что ль, было… не ко времени… Ну, а щас-то, думаю, уже можно… Да-а, щас уже всё можно… чё стесняться-то, – и он, поматывая головой и дёргая плечами, затрясся от беззвучного ненатурального смеха.
Андрей, привлечённый и немного удивлённый этим странным вступлением, покосился на охваченного фальшивым нервным весельем друга, ожидая, чем оно закончится.
Вымученный Димонов смех действительно оборвался так же внезапно, как и начался. Он вдруг затих, вновь ссутулился, поник головой и замер в неподвижности. Андрею показалось даже, что он уснул.
Но Димон не спал. Уже спустя мгновение он опять вздёрнул голову, повёл в сторону напарника сумрачным, затуманенным взором и медленно, то и дело прерываясь, будто с трудом подбирая слова, пробормотал:
– Мне всегда нравилась Наташка… Она классная… очень классная девчонка… Я уже, кажется, говорил тебе об этом… Но это не всё… далеко не всё… Я… мы… в общем, мы с ней это… значит… того…
Димон окончательно сбился и умолк, то ли потеряв тонкую нить своей вялой, путаной мысли, то ли не отваживаясь договорить до конца то, о чём он вздумал поведать.
Андрей между тем, как ни был он занят своими собственными раздумьями и как ни мало был расположен выслушивать Димоновы признания, всё же невольно был заинтригован таким многообещающим началом и, уже догадываясь, к чему ведёт и чего не решается досказать товарищ, обернулся к нему и прищурил глаза, словно пытаясь разглядеть в полутьме выражение его лица. Но, разумеется, не разглядел – вместо лица виднелось лишь размытое сероватое пятно – и вынужден был дожидаться, пока приятель соберётся с духом и признается в том, о чём, по всей видимости, не имел больше сил умалчивать.
И дождался. Димон, повздыхав, посопев и покряхтев несколько мгновений, издал горлом какой-то непонятный булькающий звук и, вероятно пересилив себя, совсем тихо, в нос, промямлил, еле двигая пепельными, будто онемелыми губами:
– Короче, мы того… этого… как бы… трахались с ней… И не один раз… Сначала в школе… после уроков… в кабинете физики… Потом у неё дома… Потом как-то раз у меня… когда родаков не было…
Димон бубнел ещё некоторое время, но уже совсем невнятно и неразборчиво, пока в конце концов не смолк и, точно обессилев, вновь не повесил голову.
Андрей выслушал неожиданное откровение друга не без интереса. И даже почувствовал в какой-то момент – он не мог не признаться себе в этом – что-то похожее на ревность. Или, вернее, едва уловимую, мимолётную тень ревности. Лёгкий, почти неощутимый её укол. Но длилось это лишь мгновение, не больше. После чего он с безразличным, небрежным видом хмыкнул и, отвернувшись от застывшего в угрюмой неподвижности товарища, вполголоса произнёс:
– Ну и отлично! Совет вам да любовь.
И, растянувшись на мягкой, песчаной, прогретой за день земле, он попытался отрешиться от истомивших и измучивших его дум и, несмотря ни на что, заснуть, рассудив, что утро вечера мудренее и что, может быть, завтра, с наступлением нового дня, ему всё-таки удастся найти ответы на вопросы, оставшиеся неразрешёнными сегодня, и достигнуть наконец того, к чему он так страстно и неуклонно стремился.
Андрей не сразу сообразил, во сне или наяву происходит то, что началось буквально через несколько минут после того, как он произнёс последнюю фразу и, разлёгшись на песке, закрыл глаза, на этот раз твёрдо решив уснуть. И ему, как ни странно, почти удалось это. Очевидно, бурные, чрезмерные переживания минувшего дня и накопившаяся усталость, физическая и душевная, дали себя знать в полной мере, и он, несмотря на продолжавшие вихриться в голове беспорядочные, сталкивавшиеся и наслаивавшиеся одна на другую мысли, довольно быстро стал проваливаться в сон.
И поначалу вообразил, что начавшееся вдруг лёгкое колыхание почвы, донёсшийся из-под земли продолжительный, понемногу нараставший гул и блёклое, чуть брезжившее свечение, внезапно озарившее густую тьму, – всё это тоже во сне. Что это иллюзия, обман чувств, и не стоит беспокоиться из-за этого, а нужно просто отдаться этим необычным, по-своему даже приятным ощущениям.
Однако приятные ощущения продолжались недолго. Земля вдруг вздрогнула так, что его чуть подбросило и опрокинуло на другой бок. В глаза ему ударил яркий свет, а не стихавший ни на мгновение и всё усиливавшийся подземный гул превратился в оглушительное скрежетание и рокот, от которых у него заложило уши. А окончательно привёл его в чувство раздавшийся одновременно со всем этим пронзительный Димонов крик, проникнутый беспредельным, нечеловеческим страхом:
– Андрюха, что это?! Что это, нахрен, происходит?!
Андрей распахнул глаза, повёл вокруг недоумённым, ошарашенным взглядом – и оцепенел от увиденного.
Поверхность реки, ещё совсем недавно неподвижная, гладкая, как стекло, как будто мёртвая, неожиданно вспенилась, забурлила, заклокотала, вспучилась рваными, покрытыми сероватыми барашками волнами, заплясавшими по ней в бешеном танце и вскоре обрушившимися на берег широким ревущим потоком. Бурлящая вода окатила приятелей с головы до ног и опрокинула их на землю. И они, ошеломлённые и внезапно обессиленные, даже не попытались подняться, а, еле двигая онемелыми конечностями, стали машинально отползать назад, неосознанно стремясь оказаться подальше от реки, в которой происходило нечто невообразимое, не поддававшееся пониманию и объяснению. А самым страшным было то, что это – они почему-то были уверены в этом – уже точно был не сон, это происходило в действительности, это было реально. Реальнее некуда…
Ещё спустя мгновение река, и до этого подсвеченная изнутри бледным дрожащим мерцанием, озарилась ослепительным лучезарным сиянием, вырвавшимся как будто из самых её глубин, прорезавшим толщу воды и устремившимся ввысь мощным световым столбом, казалось, достигшим неба и притушившим слабое тление звёзд. Глухая чёрная ночь в один миг превратилась в день. Всё то, что за минуту до этого нельзя было разглядеть даже приблизительно, сделалось различимо и ясно видно. Только свет, благодаря которому это стало возможно, был холодный, безжизненный, застылый, из-за чего всё освещённое им также принимало бесцветный, мертвенный, бездушный колорит.
Андрей и Димон взирали на всё это как околдованные, выпученными немигающими глазами, почти не дыша и не смея пошевелиться. Они не просто не понимали, что происходит; они, казалось, вообще утратили способность соображать, были как в столбняке, не чувствовали самих себя. Единственная, сугубо физическая, автоматическая, функция, которая осталась у них, – это расширенными, остановившимися, полными изумления и ужаса глазами