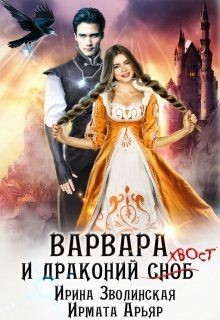– А это фото сделал Alex, – поведала мне женщина. – Он сбежал от тетки, чтобы встретиться со мной, и мы весь день гуляли! Ох, как ему досталось от отца! После того случая князь велел сыну вернуться в Россию.
– Сколько вам было?
– Мне шестнадцать, ему четырнадцать, – она пальцем обвела год внизу снимка. – Видите брошь?
– Да.
– Это подарок.
– Алексея? Как мило, – рассмеялась я.
– Нет, – она покачала головой. – Набережная Сены, суета, лавочки, мимы. Маленькая девочка потерялась в толпе и, плача, звала по-русски отца. Alex услышал и, утешая, взял ребенка на руки. Прелестная малышка, светлые кудри и серые глаза, совсем как у вас. Эта брошь её мне подарок.
Набережная Сены, суета, марионетки, мимы … Заигравшийся в стаканчики отец. Оля заболела, мама осталась с ней, а я упросила папу погулять.
Я совсем забыла тот случай, и лицо юноши, державшего меня на руках, давно стерлось из памяти. Отец нашел меня почти сразу. Единственное, что я помню, мои слезы – я не хотела отпускать своего спасителя; и то, как тянущийся забрать меня испуганно отдергивает будто обожженную ладонь папа.
У меня задрожали руки. Огонь? Уже тогда? Отец увлекся революционными идеями задолго до смерти Оли, не потому ли, что уже знал о даре младшей дочери? А что до Милевского? Видел? Понял?
Господи, ну что за глупости. Ему было четырнадцать! Если бы Алексею нужен был ангел на привязи, он бы не стал свататься к Оле! И прятать ангела он бы тоже не стал…
Значит, та встреча на речке не была для нас первой. Забавно.
– Une, deux, trois: soldat de chocolat… – рассеянно повторила я слова детской считалочки. – Вы тоже были щедры со мной, Клер. Мне тогда показалось, я не ела ничего вкуснее вашей шоколадки.
Она изумленно распахнула глаза, вглядываясь в моё лицо, но не успела выразить удивление. В дверь постучали, я подскочила первой, мадам Дюбуа покачала головой, но пошла открывать.
Алексей передал мне весточку: «О мальчике пока позаботится Чернышов. Он дал мне обещание. Не волнуйся, уезжай с Клер. Ребенка Петр заберет на вокзале. Люблю».
И всё бы ничего. Петр человек слова, это выход, Вася не будет брошен, и документы ему полицейский уж как-нибудь справит. Можно ехать.
Да, можно ехать, тревожило меня одно только слово – «люблю». Меж нами оно было под запретом.
Глава 19
Почему это «люблю» я прочитала как «прощай»? Интуиция, излишняя впечатлительность или слишком богатое воображение, но с каждой новой минутой, уезжать из Петербурга всё больше страшило меня.
Клер пожелала мне доброй ночи. Проверив сон ребенка, я прошла в отведенную мне спальню, присела в мягкое кресло напротив кровати и закрыла глаза.
Франция… счастливое детство, жестяная мансарда нашего особняка, широкие проспекты, и цветущие розовым цветом деревья у Notre-Dame de Paris. Прекрасная Сена, воды её так же темны, как и воды Невы. Париж, Петербург… зачем бежать? От смерти разве что. Только не больно-то похоже, что цель убийцы – я сама. Зато всё это очень похоже на хорошо спланированное мероприятие в череде многих других, казалось бы не связанных между собой никакой логикой. Но есть ли логика в кровавом терроре?
Массовые волнения, смерть Дмитрия, нелепые обвинения против Милевского – всё это он, безобразный оскал революции. Как забавно, что я – это тоже она.
Часы отбили один раз. За окном темно, но город не спит. Он призрак, навеки застывший в граните. Он сам и есть – пугающий жестокой реальностью сон.
Чадит кадило, тихо трещит церковная свеча. На черной рясе батюшки серебром мерцает крест. Отрывая взгляд от пламени, я подымаю голову и смотрю в лучистые глаза:
– …если греховность идет от плоти, усмирение её угодно господу?
– … и прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен, – он улыбается, и лик его сияет чистотой.
Я обнимаю себя руками и мотаю головой:
– … это жестоко… разве может грех быть очищен жестокостью?
– ... ангелы составляют часть дел Божиих. На всё его воля.
На всё воля божия. Вытирая слезы, я смотрю на темные воды широкой реки. Мне страшно, сил звать отца не осталось, голос охрип. Высокий юноша подходит ко мне, и … страхов больше нет – я у него на руках. Обхватывая его за шею, я закрываю глаза:
«Я знаю, вы – ангел… но как мне называть вас?»
Он весело смеется моим словам и отвечает:
– Меня зовут Alex, я думаю, ангел из нас двоих – это вы.
Ангел… красивое слово, но в чем его суть? Разве может женщина задаваться этим вопросом? Разве имеет она право на мятежный дух?
Горит свеча, и пламя её дрожит. Длинные косы мои убраны под черный платок.
– Кто есть ангел, батюшка?
– Ангел есть сущность, одаренная умом, постоянно движущаяся, свободная, бестелесная, служащая Богу, по благодати получившая для своего естества бессмертие.
– Тогда почему он не спас Олю? Почему не уберег, почему позволил ей … упасть?
– Ангелы не вездесущи, дитя.
– Не вездесущи? Что же это за ограничение для бестелесного существа?
Мужская рука сжимает серебряный крест. Подол алого платья испачкан в крови.
«Нашли Шувалову?!» «Нашли … да не ту…»
Тонкие пальцы пахнут ладаном, нежно касаются моей щеки, а затем оглаживают шрам на моей ладони:
– «… жертва моя, как и жертва Христова – искупительная… »
– Жертва? – сухими губами повторяю я.
– Да, ангел мой. Да, Оленька.
Оленька … могильным холодом скованы руки, вздымается грудь, огнем дерет горло кашель. Если я Оленька, почему мне так страшно? Разве умеют бояться … мертвецы?
Я распахнула глаза, сердце стучало. Кошмары. Ничего удивительного. Растерев затекшие руки, я поднялась на ноги и подошла к окну. Вопреки моим ожиданиям, квартировала Клер не на Васильевском. Доходный дом её стоял на Троицкой улице, недалеко от Владимирской церкви. Темнота за окном пугала, звенела тишина, я бросила взгляд на настенные часы. Три, вроде бы.
Рев мотора заставил меня сощуриться, выглядывая на улице автомобиль. Темный… он остановился у парадного входа. Кто-то вышел из него и вошел в подъезд. Алёша! Я выбежала в коридор и струной застыла, прислушиваясь к звукам шагов. Раскашлялась! Как на грех!
Я так хотела услышать стук, что он мне почудился. Прикрыв рот ладонью, я отворила дверь.
– О, господи… – охнула я, глядя на гостью. – Настя, что с тобой?!
Она едва стояла, волосы растрепаны, в руке бутылка.
– Бурбон, – скривилась она и продемонстрировала мне этикетку. – Хочешь?
– Обойдусь. Ты … за портсигаром? Пройдешь?
Денских взглянула мне в глаза, и я стушевалась под её острым и абсолютно трезвым взглядом.
– Все демоны преисподней, Маша… почему? – зло чеканя слова, спросила она меня.
– Почему? – непонимающе нахмурилась я.
Откуда эта злость?
– Столько лет ждать новой встречи с тобой … и ты…
И всё же она … пьяна? Даже если так, когда еще нам представится случай поговорить?
– Ждать новой встречи? – сощурившись, переспросила я. – Не ты ли порвала со мной, Настя? Не ты ли даже глаз на меня не подняла в тот день, когда Милевский забирал меня из Смольного? И не лги мне о том, что письма мои не доходили к тебе. Доходили, я знаю. Если бы Алексей был тогда против нашей дружбы, он не стал бы опускаться до лжи, а прямо запретил мне писать тебе.
Она взболтнула бурбон. Зубами открыв пробку, Настя сделала глоток из горла. Поморщилась и, зло хохотнув, подошла ко мне.