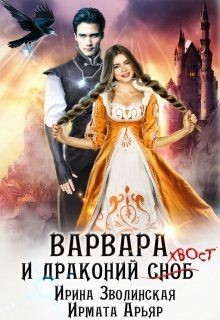– Да, доходили. Да, я не отвечала.
Она встала так близко, что я смогла разглядеть сеточку мелких морщинок в уголках покрасневших глаз. Настя протянула ко мне руку и, едва касаясь, дотронулась до моих волос, обдавая запахом алкоголя и знакомым чуть горьким ароматом лилий.
– Думаешь, я рада была порвать с тобой?
– Нет? – я вздернула подбородок.
Она щекотнула меня за ухом, и я поежилась, машинально зажимая её руку щекой. Совсем как в детстве. То была любимая ласка Денских.
– Ты ведь ничего не видишь, Маша. Сколько я тебя знаю, ты не замечала ничего и никого кроме Милевского, и до сих пор не хочешь замечать.
– Так расскажи мне? – я кашлянула, прикрывшись ладонью. – Открой мне глаза?
Настя отняла руку.
– Да, я … расскажу. Давно пора… – резко выдохнув, она опустила голову: – Знаешь, природа жестоко посмеялась над нами с братом, Маша. Мы оба оказались не в тех телах. Когда еще будучи детьми, мы менялись одеждой, родители и гувернеры не придавали этому особого значения. Сочли веселой шуткой. Коленьке так идут бантики, а Настенька вышла очаровательным сорванцом, – скопировала Денских чей-то голос. – Когда доброжелатели рассказали отцу о «невинных» увлечениях брата, было слишком поздно что-то предпринимать. Нет, папа, безусловно, пытался. Запреты, давление, угроза лишить наследства. Ничего не помогло. Николай много лет состоял в любовной связи с графом Толстым. Теперь уже покойным, но даже если отец сможет заставить его жениться, вряд ли такой брак даст плоды.
Настя замолчала. Меня качнуло, и к горлу подступила тошнота. Подняв на меня полные тоски и надежды глаза, она зло улыбнулась. Я спиной оперлась о полотно двери и, запрещая себе даже мысль, приказала:
– Говори, – голос сорвался. – Я хочу услышать это, Настя. Договаривай.
– Я люблю тебя, Маша, – ледяным тоном сказала Денских. – Даже больше чем Милевский.
Я закрыла веки, не в силах смотреть на её лицо. Впрочем, мне и не нужно было смотреть. Я слышала, как тихо посмеиваясь, она вновь делает глоток бурбона.
– Как сказала бы незабвенная Клер, Oh-là-là! Кстати, в постели она невероятна, хоть и в большей степени предпочитает мужчин. Полагаю, вы уже были вместе? Ах, да, как я могла забыть Милевского? И как вам понравилась любовь «à trois»?
Это всё новомодное равноправие… осложнение болезни по имени «феминизм»! Надев брюки, особенно впечатлительные дамы, будто бы становятся существом другого пола. Вся эта нежная дружба меж женщинами – только попытки стать хозяйкой собственной судьбы, как мечтали мы в детстве с Денских!
Так ведь?
Последний вечер в стенах Смольного. Пустая уборная. Одинокая тусклая лампа. Она мигает, затухает и снова загорается. Я встаю напротив умывальника и, зло усмехаясь отражению, стягиваю с шеи шелковый шарф. Днем приезжал увидеться со мною князь. Директор вышла из кабинета, оставив нас наедине. Мы шагнули друг другу на встречу, и я ударила его по щеке. Без слов рассмеявшись в ответ, Алексей схватил меня за руки. Он легко отвел мне их за спину и, крепко сжимая мои запястья, поцеловал меня в шею, а когда я обмякла в его руках, прикусил нежную кожу, оставив синяк.
Хлопает дверь за моей спиной, я инстинктивно поворачиваюсь на звук. Непривычно серьезная Настя встает напротив и, взглядом впиваясь в след на моей шее, сквозь зубы, говорит:
– Как же я хочу стереть его из твоей жизни, Маша… из твоей головы! Я хочу стереть его с тебя!
Снова волнуется лампочка, мигая часто. Стереть… отличная мысль… Я дергаю краешком рта.
– Только ты не позволишь, – она опускает плечи. – Если бы ты только могла понять, как сильно я люблю тебя, – тихо шепчет Настя.
Не позволю? Нет, я позволю! Резко откидывая волосы, я наклоняю голову, подставляя ей обнаженную шею.
– Стирай! – я рукой машу в сторону губки и таза с холодной водой.
Только вместо ледяной губки кожи моей касаются её губы. Я вздрагиваю и, поворачивая голову, недоуменно смотрю в её глаза. Она криво улыбается, и я вдруг понимаю, какой дурой она считает меня. Как глупо выглядит это мое «стирай», она ведь знает, знает о моих чувствах к Милевскому!
– Ты ... издеваешься надо мной, – зло выдыхаю я.
Настя хрипло смеется и, расправив плечи, отступает от меня.
– Нет, Маша, не издеваюсь. Я умираю! – кричит она и, поджимая губы, отворачивается.
Она стремительно уходит, я остаюсь в умывальне одна. В спальне Денских впервые отворачивается на другой бок. Алексей забирает меня рано утром, а Настя не смотрит на меня.
Равноправие, мода… В умении не видеть дальше своего носа, мне, похоже, равных нет! Настя тихо посмеивалась, бормотала что-то по-немецки, да, то был любимый её язык, и, судя по всему, продолжала методично уничтожать алкоголь.
– Я полагаю, что мне нужно съесть или выпить что-нибудь. Но вот трудный вопрос – что же именно?
Дмитрий тихо смеется.
– Одна сторона сделает тебя выше, а другая сторона сделает тебя ниже.
Шляпник умер, но Алиса всё падает, падает в бездонной норе! Я потерла виски и, не глядя, протянула раскрытую ладонь в сторону Денских:
– Дай-ка мне свой бурбон.
Смех её оборвался. Бутыль легла мне в руку, я открыла глаза и сделала большой глоток, задерживая обжигающую жидкость во рту, прежде чем позволить алкоголю опалить горло.
– Достойно, – поморщившись, решила я и с интересом посмотрела на этикетку.
– И это … всё? – тихо спросила Настя.
Расправив плечи, я взглянула на Денских.
– Почему же? – я демонстративно взболтнула бутыль и задумчиво повторила: – Любовь втроем, говоришь …
– Маша! – громко крикнула она.
– Так выпьем же за свободные отношения! – еще один глоток. Я отерла рот рукой и, облизывая губы, добавила: – И отсутствие предрассудков.
Денских выругалась и потянулась к бутылке в моих руках.
– Думаю, тебе достаточно, – поджав губы, заметила она, а я спрятала алкоголь за своей спиной и покачала головой.
– Ну уж нет, Настя! – уверенно возразила я. – Люблю, убиваешь… вокруг меня уже столько смертей… знаешь, любовник твоего брата умер на моих глазах.
Она закаменела, а я прямо взглянула в её глаза и, истерически расхохотавшись, спросила:
– Так что же это за драма, да без бурбона?
Настя вздрогнула и, хмыкнув, отшатнулась от меня.
– Жестоко. Но я, рада, что смогла развлечь тебя.
– Жестоко? – я вскинула подбородок. – Нет. Жестоко, когда чтобы выжить, женщины торгуют собой, а потом их находят мертвыми с порезами на руках. Жестоко, когда остаются без родителей дети, когда болезнь и террор забирает тех, кому бы жить и жить! Наконец, жестоко клясться в вечной любви, а затем исчезнуть, ничего не объяснив! А я не жестока, я честна. Пафос, трагедия… ах, как же… я не видела, не понимала … несчастная любовь! – патетически воскликнула я. – Отличная причина, чтобы вдоволь пострадать! И, без сомнения, отличная причина, чтобы забыть, выкинуть нашу дружбу, вышвырнуть меня из своей жизни! Как прогнившую ветошь…
Она закрыла глаза, а я отерла вдруг ставшие мокрыми щеки.
– Забирай свой бурбон, – я протянула ей бутылку. – Мне, пожалуй, и правда, достаточно.
Она потянулась к полупустой бутылке, дрожащей рукой забрала из моих рук и не удержала. С пронзительным звоном стекло разбилось о сине-белую плитку лестничной площадки, бурыми брызгами пачкая подол моей юбки и светлые брюки Денских.
– Прости … – сказала Настя. – Я … не хотела.
Я посмотрела на стеклянное крошево у ног:
– Случается. Я приберу, не беспокойся. Хотя бурбон, конечно, жаль. Очень он был … неплохой.
– Маша, прости меня! – крикнула Денских.