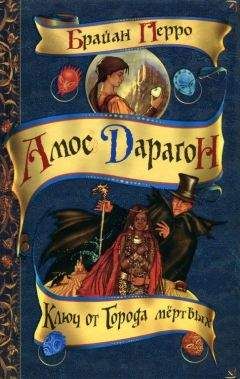- Расскажи о вашей матери, - попросила я. – Если это для тебя не слишком тяжело.
Дар заставил меня сесть на высокий стул посреди мастерской и не двигаться, пока он делает набросок.
- Нечего рассказывать. Я почти ее не помню. Знаю, что они вместе участвовали в войне, прошли большой путь, вместе сделали наш мир таким, какой он есть. Любили друг друга, несмотря ни на что. Были одержимы идеей спасти наш мир. Потом что-то разладилось. Мама ушла, оставив нас отцу. И я не знаю, что с ней случилось. Думаю, она выбрала перерождение.
- Разве иным это доступно? – спросила я.
- Некоторым. Это дар, сродни моему. Умение переходить в немагические миры. Редкий и ценный. Но на самом деле я точно не знаю. Отец запретил говорить о маме. Его уязвило ее предательство.
И он перестал любить ее детей. Что ж, история почти классическая. И даром, что они все – бессмертные властители судеб. Двое разводятся, используют детей как оружие против друг друга, забивая на их благополучие. А потом, когда жизнь налаживается, дети становятся не нужны. Они теперь – напоминание об ошибках.
- А что насчет тебя? Кем были твои родители?
- Мама давно умерла, я почти ее не помню. Только какие-то обрывки. Она была актрисой. Папа всегда говорил, что у нее было слабое сердце, но она отказывалась ходить по врачам. Мы остались вдвоем. Жили небогато, но счастливо. Папа старался, как мог, почти все заработанное он вкладывал в мои тренировки. Мы надеялись, талант раскроется, и я смогу выступать на высоком уровне.
- На коньках? Я видел, как ты катаешься. Это так же невероятно, как рисовать. Я бы хотел научиться.
- Ну, если добудешь коньки, я стану твоим тренером. Но в вашем мире их не бывает, а за контрабанду с Земли надо дорого платить. Не рекомендую.
- У тебя получилось выступать?
- Нет. Талант оказался лишь в воображении любящего отца. Я была неплохой фигуристкой, но недостаточно хорошей для топа и международного уровня.
Я рассмеялась. Неплохая, но недостаточно для Олимпиады фигуристка. Неплохой, но недостаточно для Элизиума человек.
- Потом папа погиб, и я бросила. Перестала приходить на тренировки. Никто не задавал вопросов. Не платишь – не тренируешься. Хотя мачеха пыталась заставить. Нам выплатили страховку, так что деньги были. Но меня тошнило при виде льда.
- Почему умер твой отец?
- Автокатастрофа. Заснул за рулем. Они с Хелен съехались за год до этого. Папа считал, что должен обеспечивать нам достойную жизнь. Колледж и машина для меня, машина для новой жены, совместный отдых, страховки, шмотки, техника, ремонт в доме. Он брал горы работы, постоянно мотался по командировкам. И вот результат.
- Мне жаль. Звучит так, будто твоя мачеха во всем виновата.
- Я так и считала. Не знаю. Может, это была его судьба. Не усни папа за рулем, погиб бы как-то иначе. А может, у него был шанс. Я уже ни в чем не уверена.
- Но ты осталась с мачехой?
- Ей передали опеку. И мое наследство. До достижения мной двадцати одного года Хелен распоряжалась папиными деньгами. Ну а теперь вообще богатая вдова в самом расцвете сил. Удобно. Хотя перед смертью я собиралась свалить. Мы с Хелен не ладили. Я всегда была против того, чтобы в нашу маленькую семью влезла какая-то женщина. А если такой ребенок, как я, против, то шансов почти нет. Только отъявленная стерва могла со мной справиться, Хелен и была такой.
- Сложно представить, чтобы отец привел женщину, - улыбнулся Дар.
То и дело поглядывая на меня поверх очков, он что-то рисовал на холсте острым кусочком угля. Мне ужасно хотелось взглянуть, но я держалась и сидела неподвижно.
- О, Хелен единственная, кто бы мог справиться с твоим братом, - фыркнула я. – Она кого хочешь доведет до нервного тика.
- Придумала, что будем рисовать на обороте твоего портрета?
- О да. В городе, где мы жили, зимой устраивали каток на замерзшем озере. Ставили палатки с глинтвейном, выпечкой, карамельными яблоками. Украшали все гирляндами и световыми фигурами. Весь город вечерами собирался там, катался на коньках. Я помню, как отец впервые меня туда привел, четырехлетнюю кроху. Папа тогда только-только потерял жену и понятия не имел, что делать с дочерью, как быть отцом одиночкой. В тот вечер он впервые нашел в себе силы жить дальше, радовать меня, улыбаться. У нас не было денег, но он все равно купил мне стакан безалкогольного глинтвейна и булочку. А я отказалась притрагиваться к ним без него. Мы так и поделили вкусности, сидя на лавочке. Я вся вывозилась в снегу, потом заболела, а потом папа отвел меня на каток, к тренеру. Закаляться и учиться кататься.
- Твой отец был хорошим человеком.
- Для меня – лучшим. Но я, увы, его разочаровала.
- Как и мы своего, - горько усмехнулся Дар.
Болтая, мы не услышали шаги в коридоре, несмотря на распахнутую дверь. Лишь когда в мастерскую вошел Дэваль, я вздрогнула и едва заставила себя сидеть спокойно. Не хватало еще дергаться в его присутствии!
Сегодня он был трезв. Но все так же холоден и мрачен.
- Дар, мне нужна карта, которую я просил сделать.
- Дэв, я занят, я рисую.
- А я спасаю задницы, и твою в том числе. Дай мне карту!
- За пятнадцать минут апокалипсис не случится. Я делаю скетч. Будь добр, помолчи и не дергай Аиду! Это важно, мать твою, Дэв!
Ого. Дар почти рыкнул на брата, что совершенно не вязалось с образом мальчика на побегушках, каким он предстал при первой встрече. Но самое странное: Дэваль послушался! Прислонился к косяку, сложил на груди руки и стал ждать.
Я бы, конечно, предпочла, чтобы наследничек свалил восвояси, потому что сидеть под его пристальным взглядом было сложно.
Хватило его ненадолго. Устав молча на нас пялиться, Дэваль прошелся туда-сюда по мастерской, поковырялся в банке с кистями, вытащил одну, задумчиво хмыкнул и полез ею в палитру, еще не успевшую высохнуть.
Поняв, что с грязной кистью наперевес Дэваль направляется ко мне, я дернулась.
- Что, боишься? – усмехнулся он.
- Тебя? У дурака в руках и кисточка – оружие, конечно, но тебя ведь братик наругает.
- Как и тебя. Думаешь, похвалит за то, что деточка забрела в чужую комнату и решила… - Он хмыкнул. – Попозировать?
Дэваль произнес это таким тоном, словно я сидела перед Даром голая, не меньше. Но в одном он был прав – Самаэль не похвалит. А кастодиометр в колледже откроет в себе новые границы измерений и провалится прямо в аид, на голову Вельзевулу.
Поэтому я осталась на стуле, смирно сидеть и не шевелиться, чтобы не мешать Дару. И старалась не обращать внимание на Дэваля, а это становилось сложнее с каждой секундой.
Сначала он провел кистью в миллиметре от щеки, вдоль шеи и по контурам ключицы. Я упрямо молчала, лишь стиснув зубы, потому что клянусь честно выращенным лимоном – как только я сорвусь, схвачу банку с краской и побегу за Дэваляем, из-за угла вывернет Самаэль и снова меня накажет. Отправит оттирать граффити со стен, наверное.
А потом его рука дрогнула. Не знаю, нарочно, или от усталости, но влажная кисть коснулась кожи на плече, оставила мазок черной краски – и отстранилась.
- Эй, ты мешаешь брату работать! – возмутилась я. – Нельзя менять натуру, пока ее рисуют.
- Ничего, - рассеянно отозвался Дарий, - я лишь набрасываю эскиз. Можете хоть с ног до головы измазать друг друга краской, только не двигайся еще несколько минут…
Дэваль воспринял это как призыв к действию и снова мазнул по мне краской. Его не интересовала ткань, он касался только обнаженной кожи.
Я почувствовала запах масла совсем рядом. Ощутила мягкую щетину кисти на шее и щеке. Краска ложилась теплыми мазками, но почему-то я почувствовала, как на коже появились мурашки. Когда Дэваль провел кистью за ухом, я не выдержала и дернулась, и Дар тут же зашипел.
- Минута!
Самая длинная минута в моей жизни.
Я не могла поднять голову, чтобы посмотреть на Дэваля, но чувствовала его внимательный взгляд каждой клеточкой. Его холод контрастировал с теплом краски, длинными, бесконечно длинными, мазками ложащейся на кожу. На ключицу, в вырезе рубашки. Вдоль вены на шее, к точке, где пульс бился сильнее, чем стоило. К самому кончику губ…