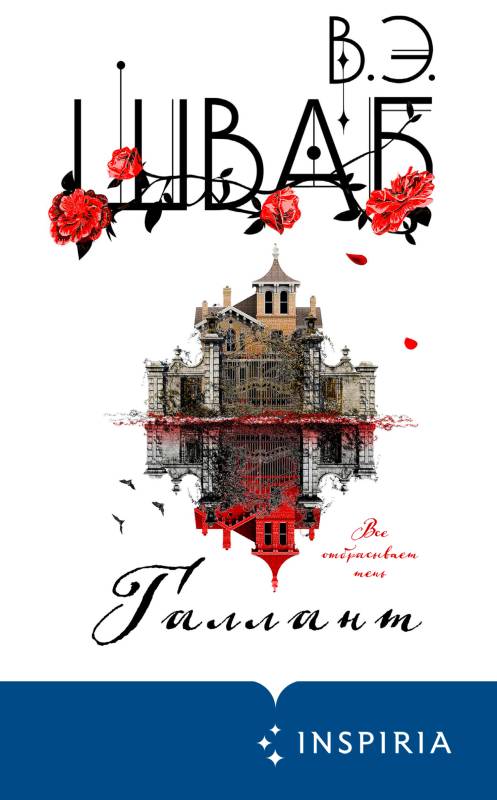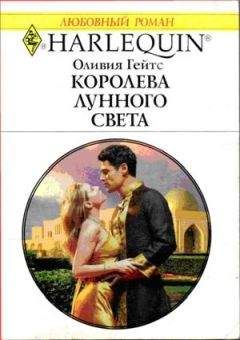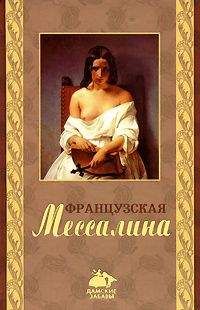После смерти его родителей банк конфисковал его, потому что Би не могла позволить себе ипотеку. С тех пор он оставался пустым. Я пересекла задний двор к большому дубу и посмотрела вверх. Домик на дереве всё ещё был там, его крышу покрывал тонкий слой снега. Я ухватилась за верёвочную лестницу и взобралась по ней. Внутри половицы были влажными и пыльными, но я всё равно села, прислонившись спиной к стене и поджав колени. А потом я позволила всепоглощающему горю и чувству вины захлестнуть меня. Когда слезы, наконец, утихли, небо уже потемнело. Я прислонилась затылком к обшитой вагонкой стене и закрыла воспалённые глаза, наконец-то блаженно оцепенев от всего, что было внутри и снаружи.
— Твой отец ищет тебя.
Мои глаза резко открылись и уставились на Каджику.
— Что ты здесь делаешь?
Он склонил голову набок.
— Ты следил за мной?
Его голова выпрямилась.
— Нет.
— Тогда как…
— Это твоё безопасное место.
Я втянула в себя воздух. Напоминание о том, что он завладел разумом Блейка, было горько-сладким.
— Откуда ты знаешь, что мой отец ищет меня? — спросила я после долгого молчания.
— Он остановился у дома Холли.
Беспокойство вытеснило все остальные чувства.
— Он видел тебя? Он видел Гвен?
— Нет. Мы держались вне поля зрения, но слышали, как он спрашивал, там ли ты. Он казался взбешённым. Вы что, поругались?
Дыша немного легче, я снова уставилась на свои колени, которые казались особенно узловатыми.
— Все думают, что Блейк покончил с собой, потому что я не смогла полюбить его в ответ.
Тихим голосом Каджика сказал:
— Так и было.
Я резко перевела взгляд обратно на него.
— Нет, ты убил его; Гвенельда убила его.
Охотник всё ещё сидел на корточках у входа.
— Он порезал себе запястье. Гвенельда нашла его истекающим кровью в кресле. Она пыталась спасти его, Катори, она действительно пыталась, но не знала, как остановить кровотечение. Поэтому она отвезла его на кладбище и раскопала меня, — Каджика придвинулся ко мне на корточках, как всегда босиком. — Гвенельда думала, что если бы она использовала его жизнь, чтобы разбудить одного из нас, в некотором смысле, она бы спасла его.
Моё сердце пропустило удар. Очень долгий удар.
— Так я… — мой голос дрогнул, — так я действительно… — я сглотнула, — Я убила Блейка?
— Он покончил с собой. Это была не твоя вина, Катори. Он отказался от жизни. Когда он увидел тебя с… с фейри, — глаза Каджики заблестели, как горящие угли, — он решил, что у него нет шансов.
Я глубоко вздохнула.
— Теперь мы квиты.
Он нахмурился.
— У тебя тоже есть… мава квеним, — прошептала я.
Каджика моргнул, а затем слабая улыбка смягчила линию его челюсти.
— Ма квеним. Моя память, а не своя память.
— Ты действительно даёшь мне урок грамматики в такой момент?
Он улыбнулся немного шире, затем сел рядом со мной и вытянул ноги перед собой. Когда я была ребёнком, здесь могло поместиться четверо, и у нас всё ещё было место для манёвра. Теперь между мной и Каджикой оставалось очень мало места.
Я не отрывала взгляда от стены перед нами, от белой доски для игры в крестики-нолики, которую мы с Блейком нарисовали давным-давно летом. Мы использовали кисти, смоченные в воде, чтобы нарисовать нолики и крестики. Как только жара испаряла нашу старую игру, мы начинали новую. Тем временем мы писали на стенах эфемерные послания или вещи, которые нас беспокоили, и смотрели, как они исчезают. У Блейка была теория, что если бы мы проявили свои чувства вовне, то почувствовали бы себя лучше.
— У тебя не только лицо моей Ишту, но и её характер, — сказал Каджика, заставляя Блейка и наши детские игры исчезнуть. — Она была с очень сильной волей, но её имя означало «сладость». Я часто дразнил её по поводу смены её имени на Машка.
— Что значит «машка»?
— Жёсткая.
— Должно быть, ей это понравилось.
Он улыбнулся, а потом перестал, и его лицо стало несчастным.
— Знаешь, чего мне в ней больше всего не хватает?
— Нет.
— Её смеха. У неё был такой красивый смех. Смех, который мог бы превратить дождевые тучи в солнечный свет.
Я посмотрела на Каджику, действительно посмотрела на него. Я бы никогда не приняла его за романтика или поэта.
— Знаешь, что Блейку больше всего понравилось в тебе? — спросил он.
— Моё угрюмое отношение?
Брови Каджики поползли вверх.
— Геджайве знает как, у него выработался иммунитет к этому.
Я ткнула охотника локтем, покачала головой, а потом смеялась до тех пор, пока слёзы не выступили на моих глазах. После дерьмового дня… дерьмовой недели мой смех казался освобождающим, как у моряка, увидевшего сушу после нескольких месяцев в море. Он поднимался от моих пальцев ног, которые больше не казались моими пальцами, он гудел в груди, вибрировал в горле, покалывал нёбо и щекотал губы. Я откинула голову назад, пока самые последние блаженные спазмы не вырвались из моих ледяных губ.
— Я не знаю, когда я смеялась в последний раз, — сказала я. — Спасибо тебе за это.
Каджика напрягся. Он, наверное, подумал, что я схожу с ума, и, возможно, он был прав. Может быть, у меня был нервный срыв. Честно говоря, мне было всё равно, потому что если это был нервный срыв, то это было великолепно.
— Так что же Блейку больше всего понравилось во мне?
Каджика ответил не сразу. Его глаза были закрыты, как будто он пытался извлечь воспоминание из бронированного ящика. После долгого молчания его губы и глаза открылись с моим ответом:
— Больше всего ему нравились твои глаза. То, как они поднимались вверх, как у кошки. То, как всё, что ты чувствовала, отражалось в них. То, как они не осуждали его, даже несмотря на то, что он был монстром.
— Монстром? — пробормотала я.
Каджика кивнул.
Я провела ладонями по лицу, прижимая кончики пальцев к покалывающим губам.
— Он не был монстром.
— Я согласен. У большинства монстров красивые лица, — Каджика изучал меня, когда говорил это.
Я опечалилась его предубеждением против фейри, все остатки блаженства съёжились внутри меня.
— Ты слышал, что я частично фейри? Ты думаешь, я монстр?
Его кадык резко дёрнулся вверх в горле.
— Ты не фейри, пока не решишь им стать.
— А что, если я действительно решу стать одной из них? Тогда ты будешь считать меня недостойной жить?
— Да.
Чувствуя себя так, словно он дал мне пощёчину, я поползла к отверстию. Мои ноги горели и болели, но я выбралась на платформу.
— Ты думаешь, что знаешь их, Катори. Но ты не знаешь. Как ты думаешь, почему мы были созданы? Если бы в них была доброта, им не нужны были бы охотники, чтобы держать их в узде.
Я не хотела спорить с кем-то, чей разум был непроницаем, и всё же я не могла не сказать:
— Якоби хотел мира.
— Только потому, что Холли так говорит, это не значит, что это правда.
— Катори! — раздался далёкий, полный боли голос. — Катори! — снова закричал папа.
— Тебе следует научиться доверять людям. Ты был бы чертовски счастлив, — сказала я Каджике, когда опустила ноги на верёвочные перекладины лестницы.
— Я не ищу счастья, Катори, — сказал Каджика, глядя на меня через маленькое отверстие. — Однажды я был счастлив, и фейри убили мою семью, а потом я снова был счастлив со своей новой семьёй, с Ишту, и снова фейри убили моё счастье. Какой смысл заниматься чем-то, что отдаёт тебя на милость другого?
— Какой смысл жить без счастья? — возразила я.
— Возможно, мне не суждено быть счастливым.
Я закатила глаза.
— Ты сам создаёшь своё счастье, Каджика. Точно так же, как ты сам создаёшь свою собственную судьбу.
Охотник проследил за неравномерными пятнами света на грязном деревянном полу.
— Когда я проснулся и увидел тебя, — он поднял глаза на меня, — Я подумал, что моё желание исполнилось.
У меня по спине побежали мурашки.
— Какое желание?
— Чтобы добраться до другой стороны и воссоединиться с теми, кого я любил. Но я не проснулся на другой стороне, и ты не была Ишту.