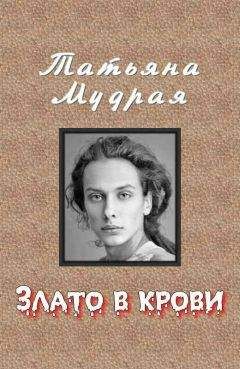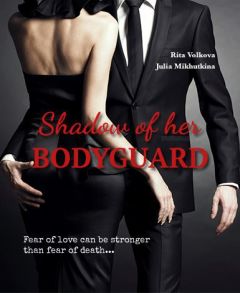Но прежде чем Римус сказал «да» или «нет», я протянул свою руку.
— Это мое. Кардинена сказала мне, что только то, что растет, цветок это или побег, может вырваться из тюрьмы своего тела. Однажды я пробовал стать таким же художником, как ты, Мастер, — виртуозно копировать чужие картины и приемы, если уж не могу творить нерукотворное. Только мы оба были неправы. Мне стоит попытаться изобразить вещи, которые лишь становятся собой. Текучие, как вода. Изменчивые, как этот самоцвет.
— Но что тогда останется самому Создателю Ласки? — спросил меня Грегор.
Римус ответил за себя и меня:
— То же, что и всем нам троим. Возможность умереть человеком.
Потом мы шли по каким-то коридорам, заходили в кабины лифтов, почти не замечая здешних диковин. Из глаз Грегора текли кровавые слезы, Римус подал ему свой платок в стиле Ришелье:
— Приведи себя в порядок. Люди кругом, а мы неизвестно еще как и когда выйдем по тем пропускам в ее отсутствие.
— Нет, знаете, что она сотворила — и последние свои десять лет отдала. А Темный Дар приняла специально, чтобы побольше отбросить от себя… при последнем расчете, — говорил Грегор через кружево. Мыслить направленно у него не хватало сил.
— Селина докрутила свой номер, как она сказала мне однажды, — задумчиво итожил Римус. — Надо же! Мы все слышали от нее, что ей приходится быть верной своему клану, обществу, большой семье… и не догадывались о том, что же ими в конце концов было.
Я молчал. Только в голове у меня упорно вертелась самая, пожалуй, нахальная из песенок, что исполнялись под трезвон Селининой гитары: «Двустишия монаха неопределенной ориентации».
С дырявым зонтиком в руках брожу я целый день,
Воруя солнце в облаках, в лесу воруя тень.
Поймаю звездочку одну, а вместе с ней луну —
С лампадкою и ночником сойду тогда ко сну.
Припев:
С монетой напряженка, с работой полный швах —
Но я в поре, но я в игре — кайфовый я монах!
У хрюшек жемчуг я словчил, алмаз сыскал в золе —
Как много див мне суждено на бренной сей земле!
У ниндзи ловкость приобрел, у самурая — честь:
Как много, брат, прикольных штук на белом свете есть!
Припев
Шустрю я тут, шустрю я там, краду улыбки дам,
За гонор кавалеров их полушки не отдам!
Но коль признать, любая блядь годна мне для пути:
Иной желал бы всё отдать, я — всё приобрести.
Припев
Из песен ноты я тяну, из книг тащу слова —
Мир не становится бедней с такого воровства!
Пусть под конец моих часов простятся мне грехи,
Что я у Бога Самого заимствовал стихи.
Припев
Перебирался за ништяк сквозь уйму переправ,
Гнилых подошв не замочив, тряпья не затрепав;
Мне от не знай каких щедрот вся в лен дана земля —
Я генерал степных широт, полковник ковыля.
Припев
Желая дольный мир объять, я расточился в прах —
Башка в пыли, душа в огне, а сердце — в небесах.
Теперь уж, верно, никуда не станется брести:
Ты сам свой дом, ты сам свой кров, ты — все твои пути…
…Все Его Пути.
Мы двое, держась за руки, спустились с гор. Сколько времени прошло с тех пор, когда я в последний раз посещал эти места, — горам было безразлично. Может быть, десятилетия, возможно — сотни лет. Здесь спешить не принято. Упадают иглы с ливанских кедров и сибирских голубых елей, сеется листва с русских белоствольных берез, посаженных переселенцами, горные ручьи разливаются озерами или промывают себе лазейку в гати, снег валом катится со склона или пуховой пеленой укутывает его — это лишь краткие мгновения здешнего бытия, оттенки главных его красок.
В озеро Дома Смертей и Возрождений плакучие ивы окунали свою гриву. Перекинутые через воду мосты неоднократно расширяли и обновляли и в конце концов пропустили под увитые плющом дуги. Мы прошли по самому удобному и подняли глаза на вывеску, что увенчала главную арку узорного чугунного литья. По-английски и на «высоком» лэнском можно было прочесть:
ПАНСИОНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НЕТРАДИЦИОННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
имени Эдварда Руки-Ножницы
Это и был тот филиал Медицинского Центра Оддисены, куда я договорился повести мою Рябиновую Женушку.
Поперек арки, на уровне человеческой талии, была привязана изумительной красоты буковая оглобля.
— Это чтобы лошади не сбегали и прочий крупный скот, — догадался я. — Как на фермах Дальнего Запада. Прежде тут всегда водились кони.
— Гиппотерапия и кумысолечение, — кивнула Ройан. — Догадываюсь.
Я «солдатиком» взмыл в воздух и, ухватив за пояс летнего костюма с капюшоном, слегка помог ей перебраться внутрь. Парный полет, так сказать, на развевающихся чесучовых крыльях.
Непарнокопытные, а также парнокопытные и прямоходящие обнаружились почти сразу. Смирные кобылы пили прямо из крепостного рва, бряцая уздой. Прекрасношкурая овечка с черной маской на лице толклась рядом с их копытами. Поэтически настроенный козел вдохновенно обгладывал какой-то кустарник, надеюсь, не очень реликтовый. И повсюду роились дети — смотрели в копыта, карабкались на крутой конский бок без помощи стремянки, лезли поверх нечесаной овчины и даже пытались взять козла за рога, сведенные, по сути дела, к двум куцым пенькам. А в тени деревьев и у корней кустов, не говоря уж о низком садовом лабиринте из бирючины, их было несчетно. Златоголовые пухлогубые подростки с бледной кожей и абсолютно прозрачным взглядом; приземистые малыши с узкими добрыми глазами на широком плоском лице, застывшем наподобие маски; весьма длинномерные юнцы, тощие паучьи кисти которых болтались ниже колен. В густой траве рядом с нами, явно не замечая никого и ничего, пухленький ребенок, совсем еще малыш, уткнулся в книгу, сплошняком усеянную многоярусными формулами.
Надо всем этим роем царила юная матка в зеленоватом, под цвет глаз, платьице и нарядной косынке на черных волосах, смугловатая, широкоплечая и узкобедрая. Она кивнула нам почти по-дружески, однако с оттенком покровительства.
— Да будут с вами Его привет и благословение. Я сестра Чолпон, «Утренняя звезда». Можно звать Венерой или Денницей.
— Лестан и Ройан Грегоры, — соврал я в полном соответствии с паспортами.
— Вы приглашены?
— Да, но имеется лишь устная договоренность, — поспешил я предупредить.