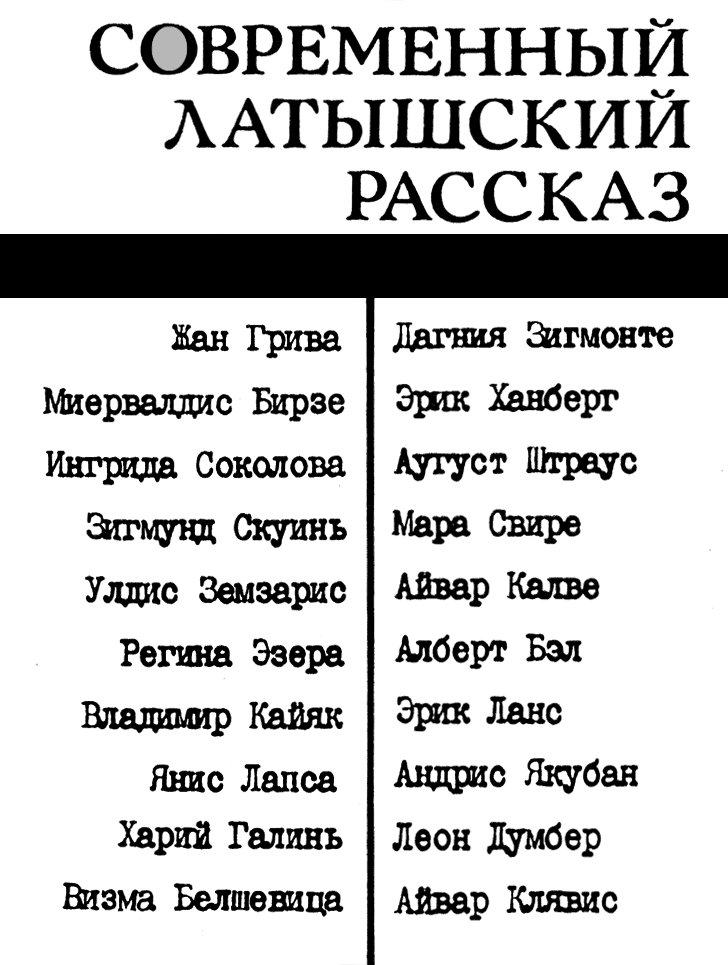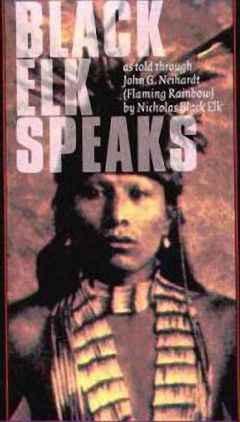Гьетал Кристалл человеку.
Заточить душу в обсидиан может только тот, кто хочет наказать себя или другого. Тут Эшлин стало по-настоящему страшно. О поединках между старейшинами она слышала только в легендах. И каждая из них едва не заканчивалась гибелью всего мира.
Эшлин очень хотелось повернуться, обнять Брендона за пояс, ткнуться ему в плечо и плакать. Долго, пока не выйдет изнутри жгучая горечь от той несбывшейся надежды, что появилась у нее в первый момент, пока она не разглядела, что в оправе, кроме ежевичных ветвей, есть тростник. Нельзя. Есть то, в чем разобраться могут только ши. Между собой. Не вмешивая людей, как бы близки и важны они ни были.
– Обещай мне, что ты будешь сначала думать, потом рассказывать мне и только потом делать то, что придумала? – Брендон говорил это, прижимаясь щекой к ее волосам чуть выше уха, так, что дыхание щекотало. Сейчас это сбивало. Нельзя вянуть. Нельзя склоняться. Ежевика – сильный, упрямый кустарник. Эшлин только сейчас поняла, как сильно ей нужен старший, старейшина. Тот, кому можно честно сказать: «Помоги мне, я запуталась». Но не человек. Сколько раз повторить это, чтобы наконец проняло?
– Не обещаю. Это обещание было бы слишком даже для Хранителя Души. А мы ее пока не нашли. Но не бойся, я не исчезну. Мне просто нужно подумать над этим.
Эшлин заставила себя выскользнуть из его рук и встала с кровати, чтобы одеться и пойти навстречу самой большой своей глупости. Брендон попытался ее остановить, и ши не смогла удержаться, поцеловав его на прощание. Ее бы ничто не спасло от его сопровождения, если бы в двери не заколотили. Комендант зашел донести, что ректор Галлахер вернулся и требует своего заместителя для доклада. Судьба требовала, чтобы Эшлин погружалась в пучину отчаяния медленно, в одиночестве, успевая придумать и прочувствовать самые дурные варианты будущего.
Она устроилась неподалеку от маленького кирпичного дома, служившего для хранения садовых тачек, лопат, мотыг и другого полезного инвентаря. В самой гуще пышных кустов гортензии стояла неприметная темная скамейка. На ней ранним утром и поздним вечером садовник, отдыхая, выкуривал трубку и любовался видом. Отсюда, с холма, большая часть Университета была как на ладони. В том числе дом ректора.
Эшлин сидела так долго и неподвижно, что на нее стали садиться поздние бабочки – как дома. Когда же она наконец увидела, что Брендон выходит из дверей нужного дома, то решительным шагом направилась по тропинке навстречу неприятному разговору. Идти навстречу опасности легче, чем покорно ждать ее.
За тяжелой ректорской дверью с вытертым посередине ногами множества посетителей порогом пахло чем-то смутно знакомым. Запах перезрелой сливы, забродившей на солнце, смешивался с полынью, темным медом и сосновой смолой. Удушливо-терпкие горечь и сладость. Эшлин чихнула, сидевший спиной к ней за столом Горт обернулся. И тут же ловко, одним движением, поднялся навстречу.
– Что привело дочь Ежевики ко мне в тот час, когда все еще спят после праздничной ночи?
– Вопрос, который не должен остаться без ответа, – сказала она громким шепотом. От одной мысли о Кристалле сводило горло.
Горт прищурился, проводя кончиком пальца по губам слева направо.
– Если вопрос достоин ответа, ты его услышишь, девочка.
По тому, как под плотными рукавами рубашки мелькнула тень, она поняла, что слова ее ректора взволновали. Это блеснули узоры на коже воина, что становились магическим доспехом в бою. Отступать было бы глупостью. Такой же, как говорить в лицо бывшему старейшине то, что она собралась сказать. Но если оба варианта плохи, а третьего нет, значит, выбирать можно любой.
Эшлин хотела бы облечь свое смятение в красивые слова, но дышать было трудно.
– Кристалл. Душа старейшины Гьетала. Она здесь. Почему?
Мгновение. Два удара сердца.
– Сядь, – одно слово сорвалось с губ Горта, и ноги сами принесли Эшлин к креслу у камина и покорно подогнулись. Одно слово – как порыв ветра, что срывает услышавшего, как лист, и несет. Даже здесь он оставался старейшиной и знал, как сделать слово сильным.
Несмотря на пляшущий за кованой решеткой огонь, Эшлин было холодно. Ее сковало ощущение беды и чужого гнева. Пока еще сдержанного.
– Что ты знаешь о старейшинах, Эшлин?
Горт смотрел на нее и сжимал в ладони свой Кристалл. Сквозь пальцы виднелся мягкий свет, что переливался внутри. Эшлин отчего-то подумалось, что ши плохо себя чувствуют, когда вокруг них камни, а для души почему-то выращивают именно камень. И она точно не знает, почему так.
– Старейшина самый сильный воин рода, самый мудрый из старшей ветви, самый… – хотя бы голос слушался, это уже было хорошо. Но Горт прервал ее, подняв ладонь. И голос иссяк. Эшлин чувствовала чужую волю, незримую, но плотную, как туманная изморозь на границе фоморских земель.
– Старейшина «самый», верно, – усмехнулся Горт, но глаза его оставались чуть прищурены, скрывая другие, более сильные чувства. – Поэтому и легенды о себе он сочиняет сам. Это его сила и право. Он знает, что должно быть сказано. Что спето. Какую ветвь растить, какую срезать. И кто не должен пережить зиму, чтобы пришла весна.
Он подошел к ней вплотную со спины, наклонился – пряди черных волос коснулись медных.
– Пусть я изгнан и проклят, но все еще чту наши обычаи. Я не могу просто взять и убить того, кто нес смерть для меня и обронил ее по дороге. Один из людей, за которых я отвечаю, уже погиб. Я все еще старейшина, только в этих стенах, для этих людей. И Гьетал пришел сюда зря.
Эшлин дернулась, ожидая сопротивления густого тяжелого воздуха, воплощения воли старейшины, но ее ничто не держало. Она чуть не кувыркнулась на пол, когда вскочила. Горт сделал шаг назад, он все так же смотрел на нее, сжимал одной рукой Кристалл и не двигался с места. Бежать прочь? Сейчас, когда чужая воля больше не давила, Эшлин понимала, что паника – плохой советчик. Ей надо узнать. Правду. Кроме Горта, здесь больше никто ее не расскажет. Кроме Горта, некому понять Эшлин.
– Мечешься, как бельчонок, застрявший в кормушке. А ведь ты уже взрослая для этого, Эшлин, дочь Ежевики. Ты боишься меня. Но стоит бояться лишь той бури, что внутри тебя и тобою вертит. Если надвигается вихрь, можно укрыться. А куда деваться от стихии, если вихрь – ты сам?
Эшлин почувствовала, как наливаются жаром уши. Это она шла спрашивать Горта о неудобном. О лжи и умолчаниях. Почему теперь ей самой стыдно? Она попробовала глубоко вдохнуть и развернуть разговор. Без ответа на