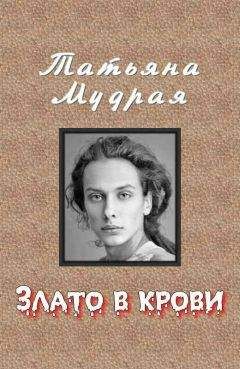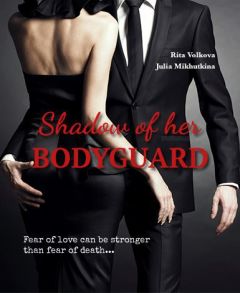Начать с того, что нас трех: и опытнейшего сенатора былых времен, и новоявленного Сэма Спейда, ну и меня, разумеется, — совершенно четко окрутили по всем правилам динанской агентурной вербовки. Наша Прекрасная Дама особенно того и не скрывала — однажды я услышал такой ее афоризм:
— Ролан, милый, любая вербовка сильна тогда, когда между агентом и вербуемым возникают отношения приязни, доверия и любви. Причем взаимные, честные и безусловно искренние.
Что и произошло, по всей видимости.
Далее. Способ, каким наша Даятельница Благ отловила моего Мастера, безусловно нарочит, хотя, признаться, невероятно, подкупающе смел. Напрашиваться к Детищу Темной Крови в гиды, притом в бесплатные! Впечатляющая встреча с Принцем, я думаю, не подстроена, но стоит учесть, что хороший агент всегда на страже, а терпения и времени для этого Селина уже имела в преизбытке. (Мне не хочется называть ее настоящим именем — хотя другой вопрос: каким из настоящих?) Однако изощренная методика, благодаря которой ему была навязана та камея с лисой, — совсем иное дело. Импровизация чистейшей воды, вот что я скажу, и бриллиантово сияющий артистизм. И дарение заколки с лисицей нашему могучему триумвирату богинь… Или следует говорить триумфеминату? Это сомнительное, однако остроумное новообразование я как-то увидел в одной из книжек, разгоняющих мой досуг и украшающих тоску.
Но в таком случае перстень, выпрошенный мною в наследство, — он…что?
Тоже посмертная провокация? Или нет — но только оттого, что Селина не умирала, вообще не имела того, что может умереть, и уподобилась той библейской паре, Илии и Эноху, что была взята на небеса во плоти?
Поймите, все три вещи — это классические маяки. Привады, капканы и нити Ариадны. Если Римус оказался обделен, то, я так полагаю, лишь ради того, чтобы выразить ему благодарность. В качестве Создателя, Отца по Крови и так далее. Но, возможно, из-за простой игры случая.
Неладное — и крепко неладное — я заподозрил уже в Амстердаме, городе «Синдиков» Рембрандта и многочисленных полуподпольных ювелиров. Я всего лишь хотел прикрыть камень моего перстня новым щитом-коробочкой, чтоб не сверкать им лишний раз. Понятное дело, возвратиться на место, где в ковре утопала старая крышечка, было трудно и вообще нельзя.
— Это исторический камень, — сухо произнес надежнейший из тех мастеров, о которых я заранее навел справки. — И уникальное обрамление. Примитивная маскировка ничего не даст.
— Тогда слегка переделайте оправу, — предложил я скрепя сердце.
— Вы с ума сошли! Платина — материал, до чрезвычайности трудный в работе, а тут тонкость отделки просто уму непостижимая. Виноградная лоза с листиками, и на них каждая прожилка видна. Можно добавить кое-где золото… Нет, только испортим зря, ничего не добившись.
— Если обратиться к мастеру, который изготовил? — спросил я. — Он, я думаю, мог бы что-нибудь посоветовать. По стилю это типично динанская работа.
— С таким же успехом вы могли назвать Лемурию или Государство Атлантов, — мой собеседник укоризненно покачал головой. — Или, что как-то более вероятно, великий перуанский город Пайтити. Мифы не придут нам на помощь, не надейтесь.
— Мифы? Это Динан-то…
— Динан — обычный город во Франции, кажется, бретонский. В департаменте Кот-д'Армор.
— Фамилию Армор при мне точно называли.
— Ну. тогда вот вам мой совет, молодой человек: не вынуждайте меня отвечать на провокации шантажом. У меня тоже есть некоторые связи в этом мире, — жестко ответил ювелир. Но, увидев мою злость и растерянность, добавил уже гораздо мягче:
— Да носите вы свое кольцо как оно есть. Все равно большей частью под перчатку прячете. Замаскировать, видите ли, иной раз куда подозрительней, чем показать открыто. Только вот пальцев не надорвите, для юноши такое кольцо тяжеловато.
И вот я продолжал ходить по вечерним музеям с альбомом для набросков, по ночным набережным и площадям — с этюдником и маленьким налобным фонарем, который иногда отражался в моем александрите холодной голубизной. Впрочем, оригиналов и в Амстердаме, и в Гарлеме, куда я забирался специально послушать легенды про Братство Черного Тюльпана, а также в Париже и Флоренции было великое множество, и самых разных, так что я на их фоне чувствовал себя абсолютно потерянным.
Моими эскизами с натуры восхищались, мои наброски и этюды углем, пером и акриловыми красками усеивали полы тех гостиничных комнат, где я останавливался. Небольшие законченные картинки, на которых отдыхала моя истерзанная душа, я непременно дарил. Да, кажется, самая первая, где я попытался изобразить Селину-дитя в сердцевине голубого лотоса, досталась симпатичной то ли алжирке, то ли тюрчанке с нежными губками, которая училась в Сорбонне на ограниченно-детского психолога. Не помню точно. Мне кажется, что я становился собой лишь в те краткие миги, когда моя кисть наносила последний мазок или карандаш — последний свой штрих. Во время работы мною овладевала, казалось, некая чуждая сила, почти с остервенением жаждущая пробиться наружу. По окончании же трудов я испытывал чернейшую хандру, несравнимую ни с одним моим былым поражением и позором. И не приходил ко мне чаемый Полуденный Свет, дневные сны мои были тупы и слепы, а наяву лишь одно чувство снедало меня: упорная надежда встретить своим наконец-то вочеловечившимся сердцем удар милосердного кинжала, зажатого в чьей-то реальной или призрачной руке — и отчаяние отого, что, по всей видимости, мне и тогда не удастся завершить свое бытие: трусливая плоть тотчас бросится назад, в объятия постылой бессмертной сущности.
Так продолжалось до того момента, когда новая волна священной одержимости не накрывала меня с головой — и в очередной раз возникало то, в чем я никак не мог признать нынешнего себя.
Однажды я затеял попробовать себя в акварели. Перед моей душой во всех мельчайших и проработанных деталях встала картина весеннего луга, покрытого тюльпанами, каждый — с несколькими рядами лепестков; из тихих речных вод поднимались желтые лилии, а с неба опускались голубовато-белые облака. И в каждом цветке зарождалось крошечное эльфийское дитя, протягивающего ручки навстречу себе подобным, из-под каждого листка и былинки летели кверху многоцветные рои огромных бабочек, а любое нисходящее к воде облако на глазах было готово превратиться в подобного бабочке дракона. Кипение жизни, переданное с расточительным изобилием, должно было отчасти повторить Босхов «Сад радостей земных», или упомятутого ранее Ван-Винкена, однако совершенно в ином ключе — благостном и даже идиллическом.