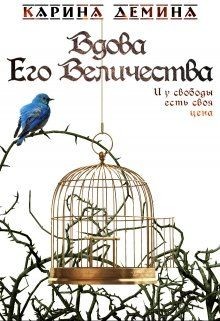— Ты все-таки нашел свой подвиг.
А Кайден, вместо того, чтобы ответить, рассмеется, давая волю клинкам, ибо туман, белый, как молоко Предвечной коровы, уже проберется в дом. И следом за ним, по сотворенной тропе, шагнут те, кого Кайден знал людьми.
Они будут походить на людей.
Вот улыбается счастливо Али ин Исула, раскручивая над головой массивную цепь, усыпанную шипами, и та, касаясь стен, оставит на них кровоточащие белой взвесью следы.
Вот отпустит тетиву сын его и оскалится, и кожа треснет на лице, выпуская темную шкуру твари, и она, потянувшись с немалым наслаждением, выберется из человеческой шкуры. Но лишь затем, чтобы упасть под ударом клинка.
У фоморов темная кровь.
И тягучая.
Она пахнет болотом и смертью, но думать о том некогда, ибо тварей много. Откуда столько взялось? Думать некогда.
Дом дрожит.
И стекла рассыпались прахом. Стены плывут, перерождаясь.
И нет больше дома.
Нет больше сада.
Есть берег, усыпанный лодками, что осенний пруд листвой. Есть черная трава, которая пытается вцепиться в сапоги мертвецов, уговорить их прилечь, вернуться в рыхлую жирную землю. Есть холм и полуразрушенные стены древней крепости, спустя столетия очнувшейся ото сна. Она оживает, выбираясь из забытого прошлого, ибо мир стоит над временем. И камень обретает прочность, а за ним, укрытый и еще неопороченный рождением твари, бьется родник.
И смеется та, что проснулась, но на счастье, еще не вошла в полную силу. Смех ее отзывается болью в голове. И встает на колени дочь Айора, падает, зажимая уши руками сестра. И хрипят братья, захлебываясь собственной кровью.
Лишь отец держится на ногах, крепко сжимая древний молот.
— Отступите…
Этот голос отдается в стенах, этот голос требует смириться. Подчиниться. Опуститься на колени и просить милости, ибо тогда будет дана она. Ведь та, чье имя забыто, не станет брать чужие души. Ей нужно лишь обещанное.
— Нет, — Кайден крутанул клинки, заставляя воздух петь, и где-то рядом загудело пламя, и стало жарко, так жарко, что древние стены раскалились, как камни в горне Гоибниу.
Запахло дымом.
Но голос стих.
— И это все, на что ты способна? — смех богини пытается прорваться сквозь голос металла, и дети ее наступают.
Снова.
И мир трещит. Но Кайден не позволит ему разорваться вновь слишком мало осталось его, слишком хрупок он сделался, слишком… а потому… Призрак взрезает туман, и Тьма спешит поделиться ядом, заставляя отступить тех, кто прячется в молочной пелене.
Это хорошая битва.
Катарина любила легенды.
Раньше.
Треск огня в камине. Поленья и угли, которые старуха ворошила ржавой кочергой. Запах пирогов. Кружка молока. Скрипящий голос, что говорил о славном прошлом, в котором все женщины были прекрасны, а мужчины — храбры. О подвигах и победах.
Предательстве.
Предателях, имен которых память не сохранила. И тогда ей, глупому ребенку, у которого хватило силы духа сбежать из комнат и спуститься по темной лестнице на кухню для слуг, казалось, что ничего-то нет в мире интересней, как стать частью такой вот легенды.
И несомненно, Катарина представляла себя великой.
Славной.
Победительницей. А теперь вот оказалось, что она только и способна, что сидеть и смотреть. На то, как рассыпаются одно за другим окна. И стрелы летят, как-то очень медленно, и потому у Кайдена получается их отбить. Как мир плывет, и из стен дома один за другим выходят люди.
Не люди.
Для людей они слишком высоки и столь прекрасны, что находиться рядом с ними просто-напросто больно, ведь земная женщина не способна сравниться с одной из этих… воительниц?
Именно.
Белые косы.
Темный металл украшений. Шкуры зверей, названия которых забыты. И золоченые рога, что поднимаются над головой мужчины, который похож и не похож на Кайдена. Смотреть на него страшно, но заметив взгляд Катарины, мужчина склонил голову.
И улыбнулся.
Вскинул огромный молот, который человеку было бы не удержать, но тот, кто стоял перед Катариной не был человеком.
— Страш-ш-шно? — руки Катарины коснулись холодные пальцы. — Все умрут. Все-все умрут.
Сейчас в лице экономки не осталось ничего человеческого. Нос ее удлинился, губы вытянулись и верхняя как-то стала коротка. Она не прикрывала узких длинных передних зубов.
— Из-за тебя…
— Нет, — Катарина попыталась было вырвать руку, но крысючиха оказалась на редкость сильной.
— Боиш-ш-ся?
— Нет.
— Лош-ш-шь, — крысючиха подобралась поближе. Теперь было видно, что тонкие ее руки покрывала шерсть, а скрюченные пальцы оканчивались острыми коготками. — Люди часто врут.
— А вы нет?
— Да. Но смотри, обещанное дитя… смотри…
И Катарина смотрела.
Она понимала, что происходящее невозможно, что не может дом просто взять и истаять, будто сделанный из тумана, будто сам ставший туманом.
— Так не бывает…
— Бывает, — крысючиха держала крепко, но вреда причинять не собиралась, что успокоило Катарину. — Здес-с-сь бывает.
— Здесь — это где?
— В памяти мира. То, что есть сейчас, ничто… он знает суть. Он возвращает. Теперь.
— С-смотри.
Катарина смотрит.
Дом?
Нет. Древняя крепость за спиной. И стены ее толсты, а камни, из которых крепость сложена, огромны. Крепость разрушена, опалена пламенем, но стена не обвалилась. Она высока, эта стена. И пока еще удерживает туман.
Молочный.
Белый.
Густой, как каша, которую варила старуха, тщательно вымешивая варево деревянною ложкой. Она и пела, и голос ее, казалось, доносился издалека.
— Слышишь? — шепчет женщина, прижимаясь к Катарине. — Зовет… тебя зовет…
Здесь нет неба.
Здесь нет солнца.
Здесь земля пахнет болотом, и холодно, до чего же холодно. Катарина и не представляла себе, что где-то может быть настолько холодно.
А песня становится ближе. И надо идти, спешить, или Катарина опоздает.
Нет. Она стиснула зубы.
Поднялась. И крысючиха встала вместе с ней, так и не выпустив руку Катарины.
— Но ты, смотри, хорошенько смотри, — шептала она на ухо, заглушая чужую песню. — Как они умирают…
Она взмахнула рукой, разгоняя туман. И Катарина увидела, все и сразу, будто обрела все-таки крылья и воспарила к небесам. Горстку воинов на вершине древнего холма, который и держал забытую крепость. Разлившуюся реку, что принесла к холму не только воды свои, но и корабли… множество уродливых кораблей.
— Что это?
— Фоморы, — крысючиха сплюнула и спешно вытерла рот ладонью. — Твари, которых не должно быть в мире.
Люди.
Они выбирались из лодок, что напоминали Катарине дохлых раздутых рыбин. Они шли. Неспешно, будто зная, что тех, кто на холме, слишком мало.
Свистят стрелы.
И одна за другой летят, раскалывая дрожащий воздух, чтобы столкнуться с другими, и вспыхивает пламя, скулит израненный ветер.
Больно.
Миру.
И Катарина чувствует его боль, и силясь хоть как-то унять ее, она запевает песню, слова которой приходят откуда-то из памяти. Надо же, ее пела та старуха, которую боялись все, даже матушкина личная горничная, а она, казалось, не боялась даже отца. А вот старуха…
Слова простые.
И Катарина теперь понимает, о чем эта песня. О прощании. С миром. С солнцем. О цене, которую пришлось заплатить детям Дану, чтобы спастись. О павших.
И уцелевших.
…она пела, и песня эта казалась бесконечной, и земля ее слушала, а воздух над крепостью вдруг налился алым цветом. И задрожал. И показалось, что еще немного и вспыхнет земля.
Всхлипнула рядом крысючиха.
Вытерла слезы кривой рукой, а потом, будто решившись вдруг, дернула Катарину.
— Идем.
Куда?
Разве не понимает она, что Катарине нужно допеть, что у нее почти получилось… что? Она не знает. Просто… все еще холодно…
— Да идем же!
Нет.
Нельзя.
Но Катарину не слушают, ее поднимают и несут. А когда она пытается вывернуться из цепких рук, на голову обрушивается удар. И песня обрывается.