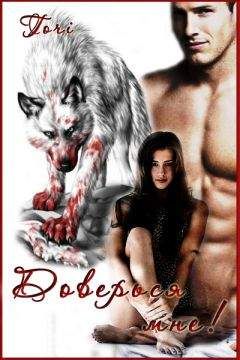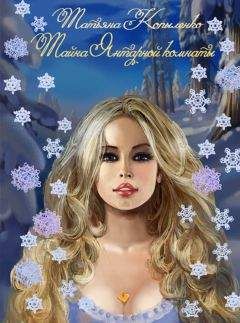Донован тоже вздрогнул от неожиданного ощущения, замедлил шаг, затем и вовсе остановился. Сердце билось гулко, хотя он не спешил и уж точно не бежал; до начала буднего дня в редакции оставался еще час.
Перекресток выглядел обычно: несколько машин, стоящих на разъезженном грязном снегу на дороге у светофора, идущие через «зебру», закутанные в теплую одежду (с утра снова поддал мороз) пешеходы.
Журналист огляделся. Улица выглядела привычной – немного пустынной, сонной, с обледенелыми ступеньками и заиндевевшими урнами; позади автобусной остановки скреб лопатой дворник.
Застыл невидимыми иголочками утренний морозный воздух, вырывались изо рта клубы пара; он вдруг пожалел, что вместо тяжелой и теплой зимний шапки одел шляпу – свой излюбленный головной убор, который стоило бы оставить на полке до начала марта, но его недавно встреченной подруге, к которой Кряг намеревался заехать после редакции, полюбился его шпионский образ в пальто и именно этом головном уборе. Любовь, как известно, требовала жертв не меньше чем все остальное, поэтому мерзнущие уши можно было потерпеть: дорога до кафе не длинная, а до редакции от перекрестка и того меньше.
Почему же ему вдруг показалось, что произошло что-то странное?
Кряг не мог описать то, что почувствовал несколько секунд назад, словами, хотя именно ими оперировал лучше всего… что-то похожее на землетрясение, прокатившееся не по земной поверхности, а по воздуху. Даже сквозь воздух и сквозь предметы. Мир «вздрогнул» – именно эти слова подходили для его ощущений лучше всего.
Бред какой-то. Галлюцинация. Не нужно было вчера на ночь допивать коньяк.
Мужчина поднял воротник пальто, еще раз обеспокоенно огляделся и продолжил путь; снег резко заскрипел под подошвами. Вот и знакомая дверь «Дворика».
Несколько минут спустя он почти забыл о произошедшем на перекрестке, устроился на стуле в углу, развернул газету, которую купил в киоске по пути на работу, и принялся привычно и быстро пробегать глазами по колонкам новостей: открытие нового торгового центра, парад любителей пива, перестрелка в западной части города, начало выставки какого-то художника…
Находясь в окружении привычных и знакомых вещей и наслаждаясь запахом заказанной яичницы, тостов и кофе, рассеянный и полностью погрузившийся в чтение Донован не подозревал о том, что в этот самый момент в здании, находящемся в нескольких километрах отсюда, из лаборатории на верхнем этаже вышел человек. Жующему теплый хрустящий тост журналисту было невдомек, что человек этот покинул лабораторию впервые за трое суток. Не видел он и того, каким пустым и безучастным взглядом, подойдя к окну, тянущемуся по периметру всего этажа, мужчина в серебристой форме посмотрел на раскинувшийся внизу город.
Что-то пошло не так.
Конечно, если бы Донован не читал газету в кафе, а стоял рядом, он – от природы любопытный и участливый – обязательно бы спросил незнакомца: «Эй, у тебя все в порядке?» А может, и не спросил бы… Слишком жуткими для восприятия были исходящие от человека в форме волны, совсем не те, с которыми хотелось находиться рядом. Но независимо от того, задал бы он вслух свой вопрос или нет, человек с тяжелым взглядом вряд ли ответил бы ему.
Потому что в этот момент мужчина, стоящий у окна, почти потерял надежду и находился на волосок от того, чтобы признать полное поражение.
Шах уже был.
Остался мат.
Второй раз странное ощущение застало Кряга уже у кассы. Лежащая на прилавке мелочь, стоящая рядом касса, витрина с бутербродами – все вдруг сделалось «нестабильным», на короткую долю секунды потеряло реалистичность. Что за слово такое – «нестабильный»? Дурацкое какое-то. Почему именно оно? Нет ответа. Предметы продолжали существовать, он даже потрогал холодную поверхность прилавка, чтобы избавиться от наваждения, но чувство, что вот-вот мир вывернется наизнанку, не уходило.
Внутри стало тревожно, непривычно страшно. Да, он собирался на работу, где намеревался плодотворно поработать над новой статьей; главный редактор был всего лишь в шаге от того, чтобы повысить Донована в должности; вечером в квартире с зажженными свечами и накрытым столом ждала любовница, чем не подвод для радости?
Но радостно не было, внутри тихо разрасталась беспричинная паника.
У выхода на улицу журналист остановился: возле окна стояла девушка, взгляд ее был устремлен в низкое, все еще темное в этот час зимнее небо.
– Вы не замечаете ничего странного? – неожиданно для себя спросил он незнакомую девушку.
Студентка медицинской Академии Нордейла Дженни Райт, держащая в руке картонный стакан с дымящимся кофе, который покупала каждое утро перед занятиями, даже не обернулась на чужой голос.
– Вороны, – сказала она.
– Простите, что?
– Вороны. Вот уже три дня в небе кружат вороны, – к холодному стеклу, указывая на небо, прикоснулся тонкий палец с ухоженным ногтем. – Почему?
Кряг перевел взгляд с пальца на неприятно низкое небо, в котором кружили птицы.
Он не знал «почему».
И несмотря на кричащие заголовки первых статей, которые могли бы появиться, раскрой он причину этого феномена, журналист боялся узнать истинное положение вещей.
* * *
Проснувшись этим утром, а точнее сказать «вынырнув» из тяжелых кратковременных погружений в забытье, которые сложно было назвать сном, Клэр поняла, что не хочет подниматься с постели.
Зачем?
Вставать, одеваться, готовить завтрак.… Для кого готовить? Вот уже третий день подряд Смешарики отказывались есть. Она пыталась, как могла: каждое утро заставляла себя идти в магазин, хотя совершенно этого не хотела, упиралась остекленевшим взглядом в прилавки, накладывала что-то в корзинку, отстаивала очереди в кассе, не слыша ни покупателей, ни кассира, следила за тем, чтобы в холодильнике всегда был запас свежих фруктов, ягод и кошачьей еды.
А теперь Фурии сложили с груди значки и перестали есть.
Хуже того, они перестали говорить. Совсем.
Не отзывались на слова, почти не смотрели на нее, часто сидели в самой дальней комнате, притихшие; некогда любимый дом замолчал, опутанный скорбью.
В зале иногда шумела далекими листьями подаренная Дрейком картина с осенним парком, с чаши продолжала литься вода. Клэр иногда убирала наметенные на ковер, выпавшие из картины желтые листочки и выкидывала в мусорку. Привыкла. Но вот уже трое суток она не могла на нее смотреть – каждый раз, проходя мимо, отворачивалась. А в спальню Дины Клэр не могла зайти совсем. Боялась, что не удержится и вновь согнется пополам, и захлебнется в истерическом рыдании.
Заходить туда было все равно, что заходить в мир, в котором когда-то было светло и тепло, где звучал смех, где светились чьи-то глаза, где в воздухе плавали мечты, а теперь все потухло. Тихо, пусто, мертво. В шкафах спальни осталась ее одежда, обувь, а в прилегающей ванной – туалетные принадлежности: зубная щетка, расческа, мыло, шампунь, духи… Клэр даже взяла их в руки, чтобы понюхать, вспомнить Динин запах, а потом долго сидела на холодном полу, не в силах двинуться с места, растирая по лицу горячие слезы.


![Тори - Доверься мне [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/14006/14006.jpg)