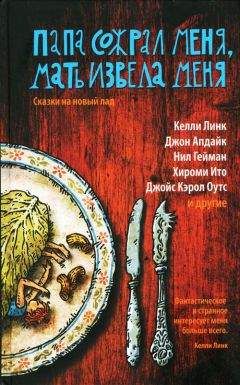оттенок улавливался с трудом, но и у меня, и у «мамы», и у забежавшей на минуту соседки одежки были совершенно одинаковые. Единственное отличие – «маму» и говорливую тетушку опоясывали широкие передники с большими карманами. «Мама» торопливо закивала:
-- Надо, детка, надо! Переодеть-то мы тебя переодели, а с волос соль так и не смыли. Ну, ничего, ничего, вечерком воду нагреем, помоешься.
Я внутренне поморщилась – ждать до вечера мне не хотелось, но пока возражать не осмелилась. Был гораздо более важный вопрос, который нужно было решить прямо сейчас.
-- Мама, а на что мы живем?
Учитывая убогость обстановки, я понимала, что семья принадлежит к одному из самых низких сословий. А общество здесь, скорее всего, четко делится на классы и, если думать на перспективу, то хорошо бы понять – есть ли возможность подняться выше.
Я была изрядно ошарашена всеми этими событиями, но то, что годилось для других попаданок – чем плохо для меня? Зачем изобретать велосипед, если уже давно существуют довольно четкие инструкции?
Мама удивленно подняла на меня взгляд и даже отложила в сторону деревянную ложку, которой доскребывала сковородку.
-- Прачки мы. Конечно, пока отец жив был и в стаю входил, получше мы жили. Ну, да что уж теперь вспоминать, хорошо хоть в стаю прачек взяли, все ж -- не совсем беззащитные.
-- Я тоже прачка?
Мама как-то замялась и с некоторым сожалением сказала:
-- Не наследственные мы с тобой. Тогда, помнишь, я даже козу продала – на взнос наскребала. Чтобы и тебя в стаю взяли – это нам еще копить и копить.
Я молча переваривала информацию. Похоже, стаями здесь называют гильдии. Но если такая разница в названии, то, наверное, есть разница и в устройстве? Чем стая отличается от гильдии?
-- Но ведь я могу помогать тебе стирать?
-- Конечно! Ты всегда мне и помогала. Это вот последнее время что-то дурить стала, – недовольно добавила она.
-- Мам, а как я дурить стала? Я вот это очень плохо помню.
-- Ну как же, как же! Ты же у Вассанов три дня с утра до ночи на огороде пласталась, чтобы лодку на день получить. Не помнишь, как я тебя отговаривала?
Я отрицательно помотала головой и со вздохом призналась:
-- Не помню.
Глава 6
Глава 6
ОСКАР
Я отчетливо помню, как умирал…
Сперва утихла боль и все звуки мира, который я покидал, как бы отдалились. Тишина обещала мне покой и долгий-долгий сон. Она наваливалась на меня и пеленала все плотнее и плотнее, не давая возможности шевелиться, думать, дышать…
Потом, сквозь эту ласковую тишину начали прорываться какие-то странные звуки и новая боль. Как сквозь вату я слышал голоса:
-- Держи эту скотину, Кунт!
-- Да ладно … Не ори. Ему и так досталось…
Меня дергали, тормошили и, кажется, куда-то пытались тащить. Глаз я открыть не мог, пошевелиться сам – тоже, и все сильнее наливалась болью голова. Я чувствовал себя обманутым и почти оскорбленным. Где, где обещанный мне покой?!
На мгновение я даже пришел в себя – меня уронили в какую-то вонючую лужу. Я застонал, но глаз так и не смог открыть. Липнущие к телу вещи вызывали странное раздражение и, возможно, я бы окончательно очнулся, но тут меня уронили второй раз. Последнее, что я слышал, перед тем как потерять сознание окончательно, было:
-- Крепче держи, болван!
Сознание возвращалось медленно, какими-то странными рывками. Больше всего мешала головная боль. Она накатывала волнами, стучала в висках и, возможно, я бы заплакал от слабости и беспомощности, но и глаза и рот казались засыпанными песком.
Очередной проблеск сознания, кроме головной боли и дикой сухости во рту вызвал резкий приступ тошноты. Так и не сумев открыть глаза, я все же повернулся на бок, и тело скрутило судорогой рвоты…
Не знаю сколько времени прошло до момента, когда я окончательно очнулся, но ощущение мокрого дерева у губ и вливающийся в пересохший рот восхитительно прохладной и вкусной воды я запомнил навсегда.
Сквозь сомкнутые веки пробивался дневной свет, я лежал и глотал воду, которую кто-то вливал мне в рот большой деревянной ложкой. Почувствовал, как заслезились глаза, и окончательно придя в себя, попытался сесть.
Мир дрожал в глазах за пеленой грязной слизи, сливаясь в мутное пятно. Я ничего не мог разобрать, кроме того, что там, за влажной серостью, есть кто-то живой. Кто-то, кто охнул и приговаривая: «Сейчас, сейчас, Оскар, потерпи мгновение…» -- отошел от меня ненадолго и тут же вернулся. Крепкая рука взяла меня за подбородок и по лицу заелозила горячая мокрая тряпка.
То, что я увидел, не было похоже на галлюцинацию – изображение стало четким и резким. И очень пугающим – и дом, в котором я очнулся, и невысокая полноватая женщина, с тревогой смотревшая на меня, были мне совершенно незнакомы.
Несколько мгновений я тупо пялился на нее, а она, очевидно как-то по своему истолковав мой взгляд, метнулась куда-то в сторону и почти сразу у меня в руках оказалась огромная, пол литровая глиняная кружка наполненная горячим и душистым рыбным бульоном. Я машинально сделал глоток, потом второй.
«Чистое блаженство! Господи, вкусно-то как!» -- я жадно допивал крепкий навар, даже не имея возможности подумать. Это действие отняло у меня остатки сил и я, чувствуя на лице и теле испарину от горячего варева, со стоном откинулся на подушку.
Болела голова, но как-то странно болела – четко над левым ухом. Последние дни я почти не мог есть, но этот бульон выпил с огромным наслаждением. В моей деревне не было домов из камня. Я никогда в жизни не видел эту женщину раньше.
Нельзя сказать, что я был здоров. Скорее, состояние тела было как при сильном похмелье, но я совершенно не понимал куда делась болезнь. Ничего похожего на медленно жрущую тело боль и слабость не было. Зато ощущение, что вчера я подрался – было.
Слегка раздражала некоторая непонятность и неправильность окружающей меня обстановки, но от горячего питья меня так разморило, что думать и анализировать я не мог. А поскольку дневной свет все еще резал мне глаза, я прикрыл веки и даже не заметил, как снова уснул.
Окончательно пришел в себя я во второй половине дня. Окно, в которое так яростно били солнечные лучи, сейчас оказалось в тени. Глаза быстро привыкли к легкому сумраку комнаты, и я,