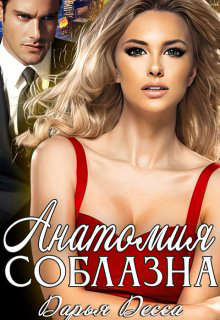что происходило здесь, на фронте, отдаляло девушек от их мирной красоты. Какие уж тут ногти! Вдоволь выспаться – вот о чем они теперь мечтали. И сделать это хотелось в тишине, а не под грохот рвущихся снарядов и бомб, стрельбу пушек и вой самолетов.
Ночь прошла очень тревожно. Лёле постоянно мерещился в черном небе нарастающий гул немецких самолетов. Она не могла себе найти места, все пыталась лечь поудобнее, да не получалось. То из девушек кто-то вскрикнет во сне, то другая прошепчет «Мамочка!», то снаружи палатки кто-то натужно закашляет, видимо, поперхнувшись горьким дымом от самокрутки, наполненной ядреной махоркой, недаром получившей среди пехоты прозвище «вырви глаз». Потому как попадет дымок от нее в глаза, и щиплет так сильно, что хочется окунуть лицо в ледяную воду и там проморгаться как следует.
Большинство девушек, которые прибыли на фронт вместе с Лёлей и были ей знакомы еще по курсам, которые они проходили в Астрахани, к этому времени уже пристрастились к курению. Правда, стеснялись делать это прилюдно, и потому обычно убегали куда-нибудь подальше, в сторонку, и дымили там, натужно порой кашляя с непривычки. Лёля несколько раз ходила с ними. Так, из любопытства и за компанию. Ей даже предложили как-то папиросой затянуться. Лёля попробовала. Осторожно набрала в рот дыма, но когда попыталась его вдохнуть, дыхание спёрло, она раскашлялась, да так сильно, что слезы брызнули из глаз. Вернув папиросу, она сказала: «Ну уж нет, я к такой гадости не привыкла». Девчонки, дымя, словно паровозы, только рассмеялись. «Ничего, – сказали они, – пройдет еще месяц другой, побываешь под огнем, захочешь курить».
Говорили они так, словно сами уже были опытными вояками и не раз вытаскивали раненых из-под вражеского огня. На самом деле опытная и повидавшая кровь и страдания среди них была Антонина, но она предпочитала курить в одиночестве, о чем-то грустно думая. Всех, кто желал составить ей компанию, она мягко, но настойчиво отправляла куда-нибудь. А мужчин, желавших «подымить с милой докторшей», посылала подальше простыми русскими словами. Сделав так раза три, она напрочь избавилась от потенциальных ухажеров.
Под утро снова прозвучал сигнал тревоги. Девушки, спешно поправляя одежду (никто в эту ночь раздеваться не решился, ожидая худшего), бросились по своим местам. В основном, попрятались по щелям, вырытым ими же неподалеку от палаток. Была надежда, что фашисты, увидев большие кресты на стенках палаток, не станут бомбить.
Правда, Антонина говорила о зверствах немцев, которым было все равно, кто под ними: хоть гражданский эшелон с женщинами и детьми, хоть военный с пушками да танками. «Все равно расстреливать и бомбами забрасывать станут», – говорила она, и желваки на ее тонком лице ходили ходуном.
Но девчонки были молодые, в основном по 18-19 лет, и мало кто из них верил, что это действительно случится. По крайней мере, они просто надеялись, что красные кресты каким-то чудесным образом им помогут спастись. И вот сидели они теперь, вдыхая горький запах полыни и ощущая глиняную пыль на губах, и со страхом смотрели на запад.
На этот раз немцы нанесли главный удар по передовым позициям советских войск, удерживающих оборону к западу от Сталинграда. Натиск был жесточайший. Фашисты упорно бросали в бой живую силу и технику, пытались танковыми ударами проломить советские позиции, обойти с флангов и разломать оборону на куски, чтобы потом перемолоть по одной оказавшиеся у них в тылу части.
Так они делали уже не первый раз. И много, очень много полков, дивизий и советских армий, оказавшись разъединенными, разбитыми на фрагменты, словно глиняные кувшины, потом уже не имели сил собраться и рассыпались еще дальше, на мелкие группы, которые либо сдавались в плен без сил, либо рвались на восток, к своим.
В этот день пришлось санинструкторам тяжко. Хоть и не находились зенитчицы на передовой, но все шло к тому. На их позиции все чаще налетали немецкие самолеты. Правда, пока не было бомбардировщиков, иначе бы девчонок с их пушками, несмотря на героизм, снесло огненной волной в течение нескольких минут. Разве может выстоять даже целый зенитный полк против нескольких десятков озверевших бомбовозов?
Девушки бились отчаянно. Обдирая нежные руки о жестокий металл, стирая кожу в кровь, бешено крутя механизмы наводки, поднося снаряды, перезаряжая и обжигаясь о горячие гильзы, задыхаясь от пороховой гари и стоявшего на позициях густого облака пыли, они метались возле своих пушек, старательно сшибая со сталинградского неба один вражеский самолет за другим.
Зенитчицы поначалу безумно радовались, когда очередной фашистский лётчик, роняя ошметки своего самолета и испуская вонючий черный дым, валился с высоты вниз, чтобы врезаться в землю со страшным грохотом где-нибудь в степи, разметав на десятки метров вокруг свои внутренности. Девчонки, видя это, прыгали и кричали «Ура!», но это было вчера и сегодня утром, а потом…
Потом они просто устали считать сбитые самолеты. Те по-прежнему грохались с неба или, вывалившись из общего строя, спешно убирались на запад, к своим, желая только одного: дотянуть до спасительного аэродрома. Потому что рухнуть где-нибудь посреди необъятных просторов – это тоже верная погибель. Пока доберешься до своих, могут и местные жители на вилы поднять, и волки слопать, да и голод и жажда убить способны не хуже.
Поток раненых начался в тот момент, когда улетела первая волна немецких самолетов, пытавшихся сравнять с землей передовые позиции советских частей. В тот момент Лёля поняла, что ее мир уже никогда не будет прежним. Буквально за несколько часов она увидела столько страданий и боли, сколько обычный человек за всю жизнь увидеть не сможет.
Стальной и огненный молох перемалывал людей так, словно не собирался никого оставлять живым на этой планете. Но Лёля, которая первые пару часов пребывала в шоке, потом взяла себя в руки. Она поняла: если расклеится, распустит нюни, то ей придется попросить у кого-нибудь пистолет или винтовку, пойти вон в ту пыльную щель и прекратить свое глупое существование. Осмысленным же оно может быть, лишь когда она, боец Красной Армии, станет продолжать свое дело.
И потом, если не она, простая русская девчонка Лёля, то кто станет помогать этим несчастным, израненным бойцам и командирам? Кто будет их спасать? Остальные девчонки, у которых тоже глаза от ужасов на мокром месте? И кто, в конце концов, отомстит за погибшего отца? Никто. «Только я. Сама. Никто, кроме меня», – стиснув зубы, сказала Лёля. Смахнула слезы с глаз и принялась делать свою работу.
С непривычки