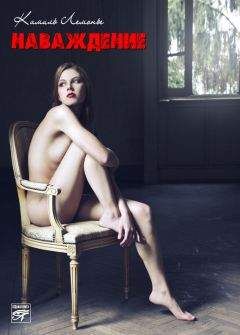Вечно влачит за собой этот первый, дрожащий человек в лице своих потомков угрызения совести и трепет страха за свои обнаженные члены.
Древнее церковное осуждение не перестает висеть над человеческим существом в его наиболее прекрасные моменты сокровенных побуждений и непосредственной и чистой красоты.
«Прикрой позор своего тела, затки краской стыда мерзость того, что дала тебе жизнь. Ты проклят за свое появление на свет, и врата, разверзшиеся при рождении твоем, закрылись над твоим бесчестьем. Да не дерзай познать себя. Отрекись от тела своего, сладко трепещущего. Да отвратятся глаза и руки твои от приковывающей приманки, которую Божество с какой-то мрачной иронией поместило в средине человеческого тела, как ось твоего существа и повелело тебе презирать ее! Пусть жгучей кипят соки сил твоих, твой нежный пламень страсти и сладкое волнение девственных чувств – все это лишь для того, чтобы ты с жалким высокомерием отрекся от своего столь явного предназначения на земле. Но если же ты будешь все-таки создавать жизнь – совершай это с горестной мыслью, что жалкий плод любви твоей навеки загрязнен!»
Так говорили заповеди, и тот же голос продолжал отвергать познание самого себя, которое является первоначальной обязанностью человека.
Тело стало укрываться. И это было лучше.
Заледенелые лилии девственности познали свою непорочную белизну только при багряном свете стыда.
Но оскверненная природа мстила тайными вспышками, бесконечными и сумрачными наслаждениями, тем более приятными, чем преступнее они были. Неведомый огонь охватил пожаром человечество, залил его вулканической, черной лавой сладострастия, в сравнении с которой языческая любовная страсть казалась веющей прохладой. Но эта страсть перегорела, потому что ей предоставляли свободно гореть.
Грех родился во мраке алтаря из неистовых обрядов смерти – этого последнего символа девственности – блеклый и бесплодный, как и она, родился чудовищным противоречием в брызжущем потоке любви. Кто станет сомневаться, что мистический культ девственности – этот краеугольный камень католического здания, набрасывая покровы и окружая волнующей тайной обнаженный лотос Индии – брачный цветок жизни и вечности – не возбудил в нас адского стремления его познать и не сделал из нас похотливого стада, плетущегося из века в век, вдыхая отравленные испарения, немые и смертельные туберозы Идола, притаившегося в своем капище?
О, нежный, непорочный и ласковый зверь-человек! Дитя – человек! Ты восторгался в ту пору своей лучезарной наготой и восхищался тому, как сочеталась с твоими силами эта дивная гармония среди гармонии Вселенной!
Ты вступил под благодатную сень мира чистосердечным и непорочным с твоим телом, напоминавшим хребты гор, расщелины долин и кудри косматых лесов. Они были не более одеты, чем ты сам.
Они стояли обнаженные под улыбкой зари, под поцелуем полдня, под лаской объятий ночи.
Незачем тебе было мучиться внутренней тревогой, свежей и лучезарной сущностью твоей возраставшей с сиянием твоих очей и постепенно раскрывшейся пред тобой. Светозарный и откровенный, ты чувствовал, как свободно рождается из жизни твоей новый бог! Как же мог бы ты оскверниться, зная себя, зная какую тень бросит и на твой путь необычное движение?
Твоя любовь была величава и проста, как любовь в природе под миганием звезд.
И зверь еще не ворвался в двери Эдема.
Догадки об устройстве женского тела, благодаря описаниям, которые я вычитал из мерзкой книжки, и гравюрам извращенного живописца, не освоили меня со скрытой тайной, а только наполнили меня чрезмерным страхом.
Я представлял это тело более ужасным, представлял себе темные и скрытые чары колдовства, где женщина казалась искусной волшебницей, коварно трудившейся над всеобщей гибелью. Для моего духовного существа это было горючей и живой смолой, не переставая снедавшей меня, едва посвященного в тайну юношу, расшатанного разъедающим и мрачным возбуждением.
Я не испытывал никакого наслаждения от связи с этой толстой, животной женщиной, способной удовлетворить лишь такую ограниченную натуру, как долговязый Ромэн. У меня же любовь соединялась с особым тайным обрядом, обрекавшим ее на проклятие.
Мое мрачное влечение облекло женское коварство позорным и властным искусством, тем более гнусным, что орудием его были презренные и низменные части творенья.
Так научили меня относиться к ним у отца и в коллеже. И с тех пор каждая женщина для меня таила в себе грех.
Ее утроба, предназначенная для людской пагубы, предстала предо мною, как колдовская чаша, как раскаленный котел пылающих адских огней.
Страх и желание тем более отталкивали меня, что я уже был окован цепями страсти к ее телу и запутался в сплетеньях виноградных лоз ее величественной красоты, в которой бродили соки вожделения.
И я ненавидел ее столько же, сколько и любил.
Вспомните, что тогда был я только юношей, извращенным именно вследствие своего чрезмерного целомудрия, и подумайте о тех жестоких ошибках, которые были причиной этой болезненной развращенности.
Мой отец мечтал для меня о спокойной обеспеченности и об умеренных и правильных занятиях юриста в провинции.
У него было достаточное состояние и некоторая доза умеренного честолюбия, так что он не желал большего и для сына. В нем можно было заметить прежде всего старание казаться человеком высокой нравственности. И он был им, несомненно, в глазах людей. В душе своей он лелеял мечту о достойной для меня трудовой и безмятежной жизни. К сожалению, никакого призвания к юриспруденции я не чувствовал. Пылкое и чуткое воображение и мой чувствительный и своевольный ум влекли меня скорее к иным занятиям, в которых греза играет большую роль. Тем не менее я повиновался его приказанию, ибо между нами никогда не было откровенных отношений.
Он пользовался своею властью отца, чтобы предписывать мне послушание и не допускал с моей стороны возражений.
Он сбыл меня на руки одной родственнице, жившей в университетском городе, где я должен был поселиться. Я спрятал на дне сундука «Любовные приключения кавалера Фобла» и две картины, ставшие для меня средством усиленного умственного разврата.
Прибыв на место назначения, я встретил молодых людей, стремившихся вдоволь испытать наслаждения, благодаря свободе и удаленности от родительского ока. Это уже весьма отличалось от мальчишеских выходок моих школьных приятелей.
Эти молодые люди находились на пороге жизни. Они перешагнули возраст неясных волнений, когда тело только начинает искать себя. Большинство из них старалось только как можно быстрей достигнуть положения, чтобы затем насладиться существованием. И поэтому они делили жизнь между развлечением и наукой.