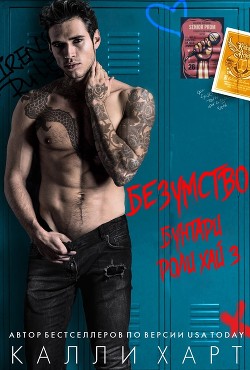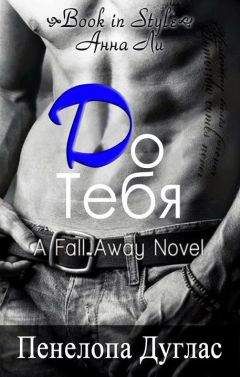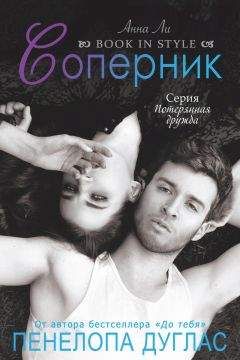Я еще раз напоминаю себе, что Кэмерон Париси — один из лучших людей. Бесчисленное количество раз он мог посмотреть на недавние события и решить, что Алекс не очень хорошо влияет на меня. Он мог бы заглянуть в будущее, увидеть, куда может привести моя связь с Алексом, и он мог бы сразу же прервать все мои отношения с ним. Мальчик, сидящий на ступеньках под дождем, уже столько раз ломался. Он продолжает ломаться снова и снова, несмотря на то, что все, чего он хочет — это жить своей жизнью и быть счастливым. Он злится, и ему больно. Прямо сейчас он не лучшая версия самого себя. Есть все шансы, что он вот-вот сорвется с катушек и унесет с собой половину Роли, но мой отец видит совсем другое, когда смотрит на него. Он видит парня, который так много потерял и не хочет терять больше ничего.
Голова Алекса остается опущенной, когда я сажусь рядом с ним на ступеньки. Мое платье тут же промокает, но мне все равно. Я держу зонтик над нами обоими, защищая Алекса от дождя, и маленькая, мрачная улыбка дергает уголки его рта. Его глаза остаются закрытыми, но он знает, что я здесь. Громкий рокот дождевых капель, бьющихся о зонтик, трудно не заметить.
— Я думал зайти внутрь. Хотел. Но никак не мог заставить себя, — бормочет он. — Впрочем, я все слышал. Парень проделал хорошую работу.
С кончика мокрой пряди волос, свисающей ему на лицо, капает вода. Я хочу поймать её, как будто это часть его самого нуждается в спасении. Я хочу поймать его целиком, чтобы он был в безопасности, и каким-то образом провести его через это, как он пронес меня раньше. Но я не знаю, достаточно ли я сильна. А еще я не знаю, позволит ли он мне это сделать. С тех пор как он узнал о Бене, с каждым днем мне становилось все труднее и труднее достучаться до него.
Я опираюсь локтем на бедро, кладу подбородок на ладонь и поворачиваюсь, чтобы посмотреть на заснеженный горный хребет вдалеке. Словно свирепые часовые нависли над Роли. Иногда они заставляют меня чувствовать себя здесь в безопасности. Защищенной. Иногда они заставляют меня чувствовать себя в ловушке.
— Когда Макс только научился читать, он каждый вечер приносил свою книгу в мою комнату, чтобы почитать ее мне. Сначала это было мило, но через некоторое время меня это начало раздражать. Он спотыкался на каждом слове, и ему всегда хотелось прочитать одну и ту же чертову вещь. «Очень голодная гусеница». Через две недели я уже могла пересказать все это от корки до корки по памяти. Я хотела засунуть эту книгу в папин измельчитель документов.
Алекс открывает глаза и смотрит на меня. Я так привыкла к его самоуверенности, что от отчаяния, которое я вижу в нем сейчас, мне кажется, что меня ударили ножом в грудь, и я истекаю кровью.
— Я позволяла себе раздражаться и расстраиваться из-за Макса с самого его рождения. Раньше я терпеть не могла бегать за ним все время. Я любила его, но никогда по-настоящему не ценила так, как должна была бы. Теперь я это знаю. Алекс, мне так жаль. Это неправильно. Ничего из этого. Если бы я могла что-то сделать, чтобы... — повернуть время вспять. Исправить это. Вернуть Бена. Исправить тебя. Заставить все это исчезнуть. Даже говорить об этом бессмысленно. Я ничего не могу сделать, и мы оба это знаем.
Алекс прочищает горло, поворачиваясь лицом к горному хребту вдалеке, затененному завесой дождя, который все еще падает.
— Не говори, что сожалеешь, Argento. Только не говори, что тебе хочется, чтобы все было по-другому. Так обстоят дела. Я должен научиться принимать это. — Он осторожно протягивает руку и проводит кончиками пальцев вниз по моей щеке, легко и нежно. Я пытаюсь наклониться к нему, но он опускает руку, пыхтя себе под нос.
Прерывающимся голосом он шепчет:
— Осторожнее, Argento. Все, что я люблю, превращается в пепел. Все, к чему я прикасаюсь, в конце концов, разваливается на куски.
Я решительно качаю головой.
— Это не совсем так. То, что случилось с Беном, не имеет к тебе никакого отношения. Это не твоя вина. Ты не проклят, Алекс.
Он снова опускает голову и горько улыбается.
— Вообще-то так и есть. Пойдем, попрощаемся с Беном.
Глава 7.
Маленький мальчик, стоящий на табурете перед кухонной стойкой — это я.
Я это прекрасно понимаю. А ещё осознаю, что это сон.
Ни один осколок сознания не позволяет мне отделить себя от того факта, что пропитанный солнцем, теплый пузырь, в котором я нахожусь, кажется абсолютно реальным. Я существую как в своем семнадцатилетнем теле, так и в гораздо меньшем шестилетнем варианте самого себя, который поет тихие, хриплые мелодии, погружая руки в толстый шарик теста. Он улыбается, широко растопырив пальцы, ухмыляясь густому липкому месиву, которое облепляет его кожу и скапливается под ногтями. Я чувствую его под своими ногтями, покрывающими мои собственные руки.
Руки мальчика.
Руки мужчины.
Я вижу с двух совершенно разных точек зрения, двумя разными парами глаз. Одна пара смотрит на мир как на место, наполненное удивлением и надеждой; другая не может не видеть обещания боли и горя во всех направлениях, куда бросает свой взгляд.
— Ты готов, любовь моя? Ты сделал все правильно?
Сначала я чувствую ее запах. Запах лилий и свежих летних полей заполняет тесное пространство, перекрывая яркий, сахаристый привкус сахарной пудры, которая плавает в воздухе, и мой желудок скручивает от волнения и горькой боли. Моя мать входит в комнату в вихре музыки и энергии. Ее темные густые кудри растрепаны и тянутся во все стороны, как виноградные лозы, тянущиеся к солнцу. Ее теплые карие глаза светятся электрической, заразительной энергией. Улыбка на ее прекрасном лице освещает всю комнату так ярко, что я почти ослеплен ею.
Я полностью влюблен в эту женщину. Это тот тип безусловной любви, которую сыновья чувствуют к своим матерям, прежде чем обнаружат, что у нее есть недостатки, и иллюзия, что она самое совершенное существо, когда-либо ходившее по земле, в конечном счете, разрушается.
Радость захлестывает меня, когда она подбегает ко мне сзади, щекоча пальцами мои бока, зарываясь лицом в изгиб моей шеи. Я визжу, когда она делает вид, что кусает меня.
— Кому нужна пицца, Passerotto (прим. с итал. – «Воробушек»)? Думаю, что просто съем тебя. По-моему, маленькие мальчики вкуснее.
Шестилетний я задыхаюсь, пытаясь выдавить из себя слова сквозь пронзительный смех.
— Нет, мама! Нет, нет, нет, не ешь меня! Не ешь меня!
Старшая версия меня самого громыхает только половину фразы, его слова густы от страдания.
— Нет, мама. Нет, нет, нет.
Запах внутри кухни усиливается, сон крутится, развивается вокруг меня, как движущаяся картина, и вот мы сидим за кухонным столом, все трое, уставившись на пиццу, достаточно большую, чтобы накормить целую армию. Моя мать складывает руки на груди, наклоняясь к моей младшей версии, через истертую древесину, и заговорщически шепчет:
— Что думаешь, любовь моя? Разве она не совершенна? Стоит ли нам есть до тех пор, пока наши животы не лопнут и кишки не выползут наружу, как маленькие красные змеи?
Юный Алессандро хихикает, на его щеках появляются глубокие ямочки. Его улыбка заставляет глаза закрыться, когда он смеется над перспективой такого обжорства.
— Да, мама. Давай съедим все это целиком. А потом — десерт!
Моя мать, в своем цветастом платье, садится на стуле прямо, вытянувшись по стойке смирно.
— Десерт? А кто вообще говорил о десерте? — Она широко раскрывает рот в притворном шоке. — Ты заглядывал в холодильник, Воробушек?
Маленький мальчик прикрывает рот руками, стараясь не рассмеяться еще сильнее. Он поворачивается ко мне, старшей версии самого себя, сидящей рядом с ним за столом, и обхватывает рукой рот, громко шепча: