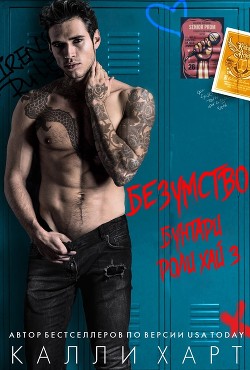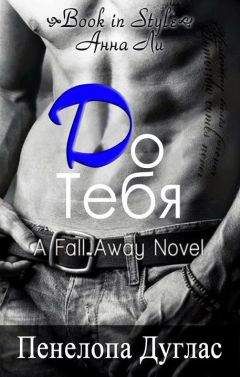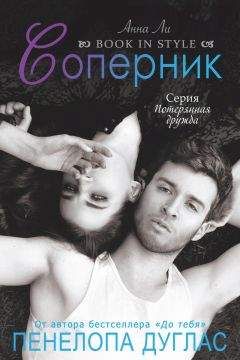— Там есть панна-котта (прим. Панна-котта (Panna Сotta) - нежный итальянский десерт, название которого переводят как "вареные сливки", но это холодный десерт из сливок с желатином. Подается панна-котта со сладким соусом, например клубничным). Ты видел?
Я медленно киваю. Грустно.
— Да, приятель. Видел.
Я видел его, когда украдкой заглянул в холодильник, хотя мама и запретила мне это делать. Видел одиннадцать лет назад, еще до наступления темноты, страданий, сломанных костей и тюремных решеток.
— Ты жульничал, — кричит мама, обращаясь к нам обоим. — Это было очень неприлично. — Ее глаза пляшут от веселья. — Десерт только для именинников, ты же знаешь. Кажется, я не знаю ни одного именинника.
Кухню заполняют два голоса — громкий и возбужденный, тихий и замкнутый.
— Сегодня мой день рождения.
Моя мать продолжает изображать удивление.
— Правда?
— Да!
— О боже мой, Воробушек. Я и понятия не имела!
— Ты знала, ты знала! — настаиваю я.
Ее улыбка заставляет меня светиться изнутри.
— Тогда ладно. Полагаю, что в таком случае после ужина в холодильнике для тебя найдется что-нибудь сладкое. Но сначала, любовь моя, мне нужна твоя помощь кое в чем, хорошо? Как думаешь, ты можешь помочь своей маме с одной маленькой работой очень быстро?
Я никогда не чувствую себя более особенным, более нужным, чем когда она просит меня помочь ей. Волнение расцветает в моих шестилетних глазах. Мое семнадцатилетнее сердце бьется чуть быстрее.
— Конечно, мама! Я могу сделать все, что угодно!
— Знаю, что можешь, мой драгоценный мальчик. Ты можешь убить драконов, спасти принцессу и снова сделать весь мир правильным. Вот почему я так сильно люблю тебя. Ты самый сильный маленький воробушек во всем мире. Давай. Пойдем со мной наверх. Это не займет и секунды. — Она протягивает руку маленькому мальчику, и он радостно принимает ее, не задумываясь. Женщина в облегающем платье с дикими каштановыми кудрями избегает смотреть на мою старшую версию, берет своего маленького сына и начинает вести вверх по лестнице.
— Не ходи туда, Алекс. — Мой голос такой надтреснутый, такой надломленный. Мучительно тихий. Мне кажется, что я кричу эти слова, но маленький мальчик не слышит меня из-за мягкого жужжания моей матери.
Я следую за ними, потому что должен это сделать. Поднимаюсь по лестнице следом за ними, запах лилий и свежих летних полей наполняет мою голову, опьяняя и пугая. Мои ноги тяжелы, как свинцовые гири, сопротивляясь тяге времени и тому, что уже произошло, и чего невозможно избежать.
Все произошло совсем не так…
Все произошло совсем не так…
Все это неправильно.
Кухня была солнечным местом, теплым и купающимся в счастливых воспоминаниях моего детства. Когда я ступаю на лестничную площадку, завершая подъем по узкой, покрытой ковром лестнице, я иду прямо в зиму. Здесь нет никаких счастливых воспоминаний. Только раздробленные осколки горя впиваются острыми зубами в мою кожу, скручиваясь под ложечкой, холодное чувство тревоги наполняет меня с головы до ног. Синий и серый, черный и тяжелый.
Мать ведет меня в свою спальню, комнату, где она обычно была в своей депрессии, откидывая одеяло на своей кровати, когда ей хотелось кричать и проклинать меня — полные ненависти слова, которые никогда не звучали правильно, извергались из ее рта.
Я вхожу следом за ней, и от моего дыхания образуется туман. Здесь так заледенело и холодно, как в холодильнике для мяса. Как в морге. Моя мать больше не держит меня за руку. Она лежит на полу, ноги искривлены и расставлены под странными углами, подол ее прекрасного платья пропитан красным.
В ее руках был сверкающий серебряный пистолет.
Ее глаза находят мои, вращаясь в ее голове.
— Чего же ты ждешь, детка? Ты знаешь, что тебе нужно сделать. Все нормально. Быстро и просто. Давай просто сделаем это.
— Н-нет, мама. Нет.
Ее глаза закатываются, видно слишком много белого, как у испуганной лошади, вставшей на дыбы перед змеей.
— Все будет хорошо, детка. Все будет хорошо. Нажми на курок, и ты все увидишь. А потом мы можем спуститься вниз и съесть десерт. Это ведь то, чего ты хочешь, не так ли? Мы можем отпраздновать твой день рождения.
Горячий металлический страх поднимается вверх по моему горлу — вкус смерти. Маленький мальчик тянется к пистолету, желая сделать свою маму счастливой. Чтобы ей не было больно. Его маленькая рука дрожит от неуверенности.
Старшая версия меня переступает через маму, присаживаясь между стройным телом маленького мальчика и распростертым телом матери, но уже слишком поздно. Он уже прикасается к тяжелой стали. Он в двух шагах от того, чтобы отобрать у нее пистолет. Я сжимаю свои старшие, более мудрые руки вокруг его, крепко удерживая их на месте, не давая этому мгновению случиться.
— Не слушай ее, — шепчу я. — Это не та помощь, которая ей нужна. Этого... этого никогда не должно было случиться.
Но теперь я невидим для маленького мальчика. Я — будущее, которое он не может предвидеть. Только я могу оглянуться на то, что было, и увидеть его, дрожащего, испуганного, желающего дать самому яркому свету в его мире — единственное, о чем она когда-либо просила его.
Его маленькие руки прорезались сквозь мои, как будто моя хватка — это всего лишь дым, необратимое действие, уже продвигающееся вперед, умиротворяя богов времени.
То, что уже прошло, не может быть отменено…
— Не надо, — умоляю я. — Ради всего святого, послушай меня. Услышь меня. Не делай этого. Мы все еще можем сделать это правильно. Мы можем все изменить. Мы можем все это устроить! Если мы спасем ее, то сможем спасти и Бена!
Я лгу сам себе. Уже ничего не исправишь. Никогда не было способа исправить что-либо из этого. Когда я снова смотрю на маму, ее лицо — кровавое месиво, половина челюсти оторвана. Лужа крови впитывается в потертый ковер, густая и вязкая, такая темная, что кажется черной.
Больше не в силах просить меня словами, она умоляет меня широко раскрытыми, паническими, испуганными глазами.
«Сделай это. Закончи это. Пусть это прекратится. Нажми на курок, Passarotto».
То, что произойдет дальше, было высечено на камне одиннадцать лет назад, но я не могу перестать надеяться на другой исход. Я жду, когда маленький мальчик опустит пистолет. Я задерживаю дыхание, легкие сжимаются в груди, надежда взмывает ввысь, когда я молюсь, чтобы он бросил свое ужасное оружие и позвал на помощь.
Он всхлипывает, слезы текут по его щекам, цепляясь за темные ресницы. Мое зрение затуманивается. Я почти ничего не вижу…
Отдача почти отрывает мне руку.
Я отшатываюсь назад, удар пистолета раздается повсюду одновременно. Я чувствую удар пули в грудь, и вдруг я лежу на спине в библиотеке, а в ушах у меня стоит крик.
— О боже, Алекс, Алекс! Мне так жаль! Я не хотела этого делать! Я, черт возьми, не хотела, клянусь! — Девушка с длинными черными волосами и рубиново-красными губами стоит надо мной, ее рука трепещет на груди. Ее бледные белоснежные фарфоровые щеки забрызганы красным. Боль распространяется по моей груди, как корни дерева, углубляясь все глубже, захватывая, обволакивая мои кости…
Девушка с черными волосами обнимает меня за плечи, крепко прижимая к своей груди и обнимая одной рукой, словно защищая.
Все в порядке, Алекс. Все нормально. Ты сделал то, что должен был сделать. Ты сделал то, что должен был сделать. Ты сделал то, что должен был сделать. Ты сделал то, что должен был сделать. Ты сделал то, что должен был сделать. Ты сделал то, что должен был сделать…