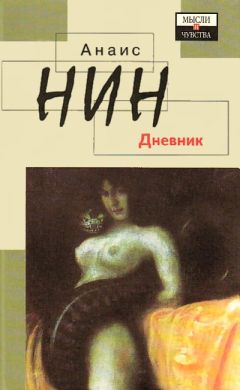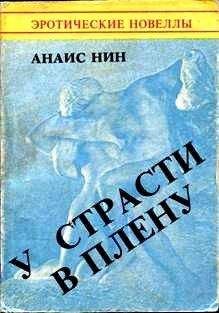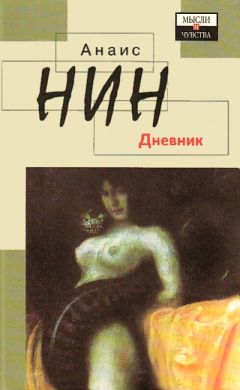На пляже прохлада немного успокоила нас. Мы лежали на песке, звуки джаза доносились все еще до нас. Тяжелые удары барабана издалека, тяжелые, как удары сердца, тяжелые, как удары члена в утробе женщины. Волны катились на песок к нашим ногам, и другие волны внутри нас перекатывали нас по песку снова и снова, пока мы не кончили вместе. На мокром песке, под далекие вздохи и взвизги джаза.
Вот это и вспомнил Марсель. И сказал: «Что за прекрасное лето было! И, наверное, каждый догадывался, что пьет последние капли счастья».
Толпа тащит меня, хочет вобрать в свой поток, распоряжаться мной. Зеленый свет на перекрестке приказывает мне именно здесь пересечь улицу. Улыбающийся полицейский приглашает меня проследовать между серебряными шляпками перехода. Даже осенние листья подчиняются единому движению.
А я выламываюсь из всего этого. Я — отрезанный ломоть. Сворачиваю вбок и оказываюсь на верхней ступени лестницы, ведущей вниз, к набережной. Подо мной река. Ничего похожего на тот поток, откуда я только что вынырнула, где трутся друг о друга, сталкиваются гонимые голодом и вожделением ржавые обломки.
Я сбегаю вниз, и с каждым моим шагом уличный шум отступает, съеживается. От ветра, поднятого моей юбкой, листья забиваются в щели. А там, где кончаются ступени, — люди, выпавшие из мира толпы по той же самой траектории, матросы, потерпевшие крушение в водоворотах улиц, бродяги, отказавшиеся принять законы толпы. Здесь они валяются под ногами у деревьев, спят, выпивают. Они отрешились от времени, от собственности, от работы, от рабства. Их ритм не совпадает с ритмом остального мира. Им не нужны тряпки и крыша над головой. Все они одиночки, и все похожи друг на друга словно родные братья. Время одинаково истрепало их одежду, вино и ветер одинаково изморщинили их кожу; и лица у них похожи: корка грязи, разбухшие носы, застоявшаяся влага в уголках глаз. Отказавшись плыть в людском потоке, они нашли другой — река успокоила их. Вино и вода. Каждый день они исполняют обряд отречения. Причащаются вином и рекой, и вода размывает затянутые узелки мятежа, смывает железное, режущее одиночество, уносит в свое сияющее молчание.
А они бросают в реку газеты, и это их молитвы. Унестись, вознестись, переродиться, без этой боли в костях, во всем скелете — только биение пульса говорит о жизни. Без потрясений, без насилия, без пробуждения.
Бродяги спят, а рыбаки, как загипнотизированные, застывают на долгие часы, всем своим видом показывая, что их интересует только улов. Река общается с ними через бамбуковые удилища, по рыболовной снасти добирается до них трепет ее души. Забыто время, голод забыт. В нескончаемом вальсе света и тени исчезли воспоминания, пропали страхи. Рыбаки и бродяги как анестезатором накачаны блеском и посверкиванием реки, жизнь угадывается в них лишь по биению пульса. Пустота, остались лишь кружения танца.
Плавучий дом причален к подножию лестницы. Свет и тени испещрили его борта; он широк, тяжел, устойчив на своем киле, но река вздохнет глубоко — и он поднимается, выдохнет — он опустится. Медленная вода омывает его бока. Внизу, у самой ватерлинии, водоросли. Как русалочьи волосы, они пластаются по воде, а то нежно льнут к тронутой мхом древесине. Хлопают, распахиваясь и закрываясь, послушные порывам ветра ставни, и крепкие сваи, оберегающие баржу от ударов о берег, трещат от натуги, как старые кости. Дрожь пробегает по заснувшему плавучему дому, как пробегает она по телу больного в лихорадочном сне. Замер вальс теней и света. Нос баржи зарывается поглубже, встряхивая причальные цепи. Это мучительное мгновение — вот-вот оно прервется вспышкой гнева и ярости, как это бывает на земле. Но нет, сон воды ненарушаем. Все на своих местах. Ночной кошмар может ворваться и сюда, но река владеет тайной сохранять свою непрерывность. На мгновение взволнуется лишь поверхность, но суть реки там, в глубине, невозмутима.
Я вступаю на сходни, и от городского шума не остается ни капельки звука. Всегда, когда вытаскиваю ключ, начинаю нервничать: а если упадет в реку мой ключ, ключ от маленькой двери, ведущей в бесконечность? Или вдруг дом оборвет свои швартовы и уплывет от меня. Так однажды и случилось, но с помощью береговых бродяг его вернули на место.
Тотчас же, как только оказываюсь внутри дома, я забываю название этой реки и этого города. Эти стены из старой древесины, тяжелые балки над головой могут быть со мной и на норвежском паруснике, пересекающем фиорды, и на голландской шхуне у берегов Бали, и на джутовой барке где-нибудь на Брахмапутре. Огни ночного берега — такие же огни горят и в Константинополе и на набережных Невы. Такие же тяжелые колокола гремят и в Пещерном Соборе. Всякий раз, вставляя ключ в замок, я ощущаю волнение, словно перед отъездом куда-то, слышу, как начинают позвякивать цепи, как поднимают якорь. Как только я оказываюсь внутри, начинаются все мои путешествия. Даже ночью, когда мой корабль спит, когда ставни закрыты и не видно дымка над его трубой, он кажется мне таинственным парусником, плывущим неведомо где.
Ночью я закрываю ставни, выходящие на набережную. Но когда я открываю окно, могу видеть шмыгающие мимо смутные тени: мужчин с поднятыми воротниками, с низко надвинутыми на глаза кепками и рыночных торговок в широких длинных юбках. Укрывшись за деревьями, они занимаются любовью. Уличные фонари высоко вверху, и свет их не добирается до зарослей вдоль длинной каменной стены. Только когда зашуршат створки окон, слившиеся тени стремительно раздваиваются, чтобы потом, как только все станет снова тихо, слиться в одно целое.
Вот сейчас мимо идет баржа, груженная углем, и волны от нее качают мой дом и другие приткнувшиеся к берегу баржи и лодки. Качаются картинки у меня на стене. Подвешенная к потолку рыбацкая сеть раскачивается подобно паутине гигантского паука, осторожно стягивая петли вокруг ракушки или морской звезды, угодивших в нее.
На столе лежит револьвер. Никакая опасность не грозит мне на воде, но кто-то посчитал, что револьвер мне может понадобиться. Я смотрю на него так, словно мне припоминается совершенное мною преступление — мои губы складываются в улыбку, с какой люди смотрят порой в лицо опасности, отвести которую они не в силах; так еще улыбается женщина, когда говорит, что весьма сожалеет о неприятностях, случившихся по ее невольной вине. И это улыбка природы, со спокойной горделивостью подтверждающей свое естественное право на убийство; зверь в джунглях не знает этой улыбки, но человек, когда в нем проявляется звериная сущность, улыбается именно так. Именно такая улыбка возникает на моем лице, когда я поднимаю револьвер и целюсь из окна в реку. Но мне так отвратительно убийство, что даже стрелять в воду мне страшно — словно там, в Сене, я могу убить снова какую-нибудь Прекрасную Незнакомку — вроде той, которая бросилась здесь в воду несколько лет назад. Она была так красива, что в морге сняли слепок с ее лица.