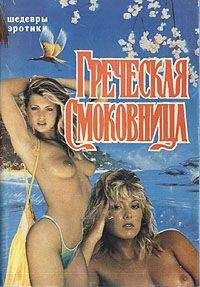лекцию или выступать по телевизору,
или со всей важностью слушать в суде дело о разводе. Но он ничего этого не
делает, а наклоняется над ванной, одной рукой
опершись о фаянсовый борт, а другой пробуя воду. Странно.
Он принюхивается.
- Неплохо, да? Немножко мягко, немного, может быть, сладковато, трав не
столько, сколько написано на коробке,
но все же ничего.
Я киваю. Он мне улыбается; мне так хорошо, я чувствую такое блаженство,
что у меня перехватывает дыхание:
жить в крошечной комнате, в атмосфере водяных паров и запаха лаванды, что может
быть лучше?
Он выходит, возвращается с наручниками. Я протягиваю ему руки, и он мне
надевает наручники.
Ванна глубокая и наполнена на три четверти. Чтобы не наглотаться пены,
приходится поднимать подбородок.
Только закрыв кран, он смотрит на меня, снимает галстук и пиджак.
Я слышу, как он возится на кухне, ходит по плиточному полу, потом
(бесшумно или почти бесшумно) по ковру в
столовой.
"Делил со мной тайны души моей..." Я слышу голос Криса Кристоферсона
сквозь пену, которая забила мне уши.
Мы не слушали W.O.X.R. с тех пор, как я однажды сказала, уже не помню к чему,
что это - моя любимая радиостанция. Он
мне сказал, что по другой программе передают незнакомый отрывок из Вивальди,
который он никогда не слышал.
- Тебе незачем оправдываться, - плаксиво ответила я, - если хочешь,
переключай, это же твоя квартира.
Он состроил гримасу и ответил, что он сам это прекрасно знает; позже он
сказал мне, что это было не лучшее у
Вивальди, но послушать все же стоило.
"...А каждый вечер он согревал меня..." Он приходит с бокалом шабли в
правой руке... "Все свои завтра я отдам за
одно вчера..." убирая пену с моей щеки. Вино ледяное... "Тело Бобби рядом с
моим..."
Он одной рукой расстегивает жилет, делает три глотка вина.
- Его зовут Джимми. По телефону его можно принять за ирландца. Ты что-
нибудь слышала о массажистах-
ирландцах?
- Нет, - говорю я смеясь.
"...Любовь это другое название..."
- Я думала, они все шведы.
"...Больше нечего терять..."
- Я тоже, - говорит он, - шведы или французы.
"...Больше ничто не имеет значения, ничто..."
- Зачем он сюда придет?
"...Но ты свободна..."
- Чтобы хлопать в ладони на кухне, что за идиотский вопрос.
"...Ощущать добро так просто, господи..."
- Массаж, о котором ты мне рассказывала.
"...Ощущать добро мне было вполне достаточно..."
- Я решил, что тебе будет приятен еще один сеанс массажа.
Ну вот, нельзя ничего сказать и думать, что он забыл. Он очень внимателен
к тому, что ему говорят, к этому трудно
привыкнуть, это не часто встречается. Его ничто не может отвлечь или наоборот
заинтересовать сразу. Но он всегда делает
выводы из того, что видит и слышит. Если я ему читаю несколько строк из Ньюсуик
о какой-нибудь книге, он эту книгу на
следующей неделе обязательно купит. В одном из длинных субботних разговоров - мы
оба были полупьяны - он говорил
мне о шелковице, которую он летом собирал позади теткиного дома, когда ему было
девять лет.
- Шелковица? А ты шелковицу не любишь? Я ее обожаю!
Около полуночи он говорит мне, что пойдет купить газету. Через полчаса он
возвращается с Таймс и крафтовым
мешком, в котором лежит шелковица. Он ее моет, пока я просматриваю в газете
рубрики по театру и искусству. Он купил и
сливки; он заливает ими шелковицу, которую положил в глубокую салатницу. Мы едим
ее до тех пор, пока я говорю, что
больше не могу. Он доедает несколько ягод, плавающих в сливках.
- Но где ты ее нашел так поздно?
- А я ее выращиваю на углу Гринвич и Шестой авеню, - торжественно
отвечает он, допивая то, что еще оставалось в
салатнице.
Массажист приходит около восьми часов. На вид ему лет двадцать, он мал
ростом, коренастый, с длинными
светлыми волосами и мощными бицепсами, выступающими под синей футболкой. На нем
джинсы и эспадрильи, а в
дорожной сумке с надписью Исландские авиалинии он принес полотенце и масло для
массажа. Я снимаю рубашку и ложусь
ничком на кровать.
- Я хочу посмотреть, - объявляет он Джимми, который продолжает молчать, -
я хотел бы научиться массировать,
чтобы делать это, когда вы заняты.
- Я всегда свободен, - буркает Джимми, разминая мне плечи. Его руки,
смазанные маслом, гораздо больше, чем
можно предположить, увидев его рост, - они огромные и горячие. Руки у меня
расслабляются, и я с усилием закрываю рот.
Его ладони медленно массируют мне спину, глубоко вдавливая кожу. Он снова
массирует плечи, потом талию. Когда он
спускается ниже, мне хочется стонать.
- Дайте я попробую, - говорит он Джимми.
Большие руки оставляют меня. Веки мои тяжелеют, как будто я пытаюсь
открыть их под водой. Его руки по
сравнению с руками массажиста прохладные, их прикосновение легче. Массажист
поправляет - его, не говоря ни слова,
показывает, как надо, и снова я чувствую на себе прохладные руки, но теперь их
нажим стал четче. Ладони разминают мне
бедра, не трогая ягодиц, прикрытых полотенцем. Потом щиколотки. потом ступни.
Ученик и учитель завладевают каждый
одной ногой и осторожно массируют их.
Потом меня переворачивают. Я уже не сдерживаюсь и вздыхаю под нажимом
медвежьих лап, которые вдавливают
меня в постель. Он повторяет каждое движение массажиста, но гораздо более умело,
чем вначале. Мускулы мои
расслабляются и как бы раскисают. Кто-то покрывает меня простыней и гасит свет.
Я слышу легкий шорох - кто-то просовывает руку в пластиковую ручку.
Хлопает дверь холодильника. Они
открывают две банки пива. Несколько секунд они переговариваются шепотом, от чего
мне еще больше хочется спать.
- Двадцать пять долларов сверху.
Лампа у изголовья снова зажигается. Мне говорят, чтоб я легла посередине
кровати лицом вниз. Я слышу, как
открывают дверь ванной, потом до меня доносится звук, который производит
накрахмаленная простыня, через секунду на
меня набрасывается свежее полотенце. Кто-то расстегивает ремень.
Кожа на моей спине четко разделена на части. Те части, что
размассированы, расслаблены, лежат мягко под
простыней. Та кожа, что неприкрыта, напряжена.
- В чем дело, Джимми?
Я слышу, как парень бурчит:
- Вы не за того меня приняли. - Джимми прочищает горло.
- Вы не поняли, старина. - Голос у него мягкий и любезный.