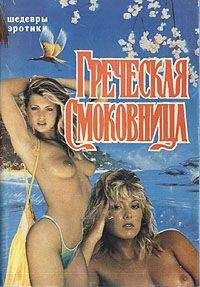- Вы не поняли, старина. - Голос у него мягкий и любезный.
- Я же сказал вам, что вы не сделаете ей ничего плохого. Я обещаю. Ведь
она не сопротивляется, нет? Соседей на
помощь не зовет? Это ее возбуждает, вот и все.
- Ну и бейте ее сами!
- Тридцать долларов!
Матрас проваливается под тяжестью человека, который садится на кровать
справа от меня. Меня слабо стегают, и я
прячу голову под руку.
- Таким темпом вы провозитесь до завтра...
Голос звучит рядом с моей головой. Я чувствую запах пива и пота. Матрас
шевелится еще раз, сидевший справа
человек поднимается. Кто-то берет меня за волосы и передвигает мою голову. Я
открываю глаза.
- Тридцать пять долларов.
Удары становятся сильнее. Наши лица почти соприкасаются. В его глазах
почти не видно белков, зрачки
расширились. Я уже не могу ни стонать, ни сопротивляться.
- Сорок долларов, - негромко говорит он. На лбу у него блестит пот.
Тот, кто надо мной, придавливает мою спину коленом, и от следующего удара
я ору во все горло. Я молча борюсь,
стараясь снять его руку с моей головы, отодвинуть свое лицо от него, дрыгая
ногами. Он хватает меня за запястья и грубо
сжимает их, снова хватает меня за волосы и оттягивает мне голову назад.
- Давай, мальчик, давай. Пятьдесят долларов, - свистящим шепотом выдыхает
он, прижимаясь своими губами к
моим. Следующий удар заставляет меня кричать внутри его рта, а следующий за ним
так силен, что я корчусь и вою.
- Все хорошо, Джимми, - говорит он так как сказал бы официанту, который
подал ему слишком большую порцию
жареного картофеля, или ребенку, который топает ногами, капризничая после
утомительного дня.
* * *
Все это время моя ежедневная жизнь днем оставалась такой же, как всегда:
я была независима, сама оплачивала
свои расходы (завтраки, плата за пустую квартиру, квитанции за газ и
электричество, дошедшие до минимума), сама
принимала решения, сама делала выбор. Но ночью я становилась полностью
зависимой, полностью на чужом иждивении.
От меня не ждали никаких решений. Я ни за что не несла ответственности, мне не
приходилось выбирать.
Я это обожала. Я это обожала. Обожала. Правда. Я это обожала.
С того мгновения, как я затворяла за собой дверь его квартиры, я знала,
что мне ничего больше не нужно делать,
что я здесь не для того, чтобы делать, а чтобы "быть сделанной". Другой человек
взял под контроль всю мою жизнь, вплоть
до самых интимных ее подробностей. Если я уже ничего не контролировала, взамен
мне было разрешено ни за что не
отвечать. Неделя за неделей чувство того, что я освобождена от всех забот
взрослого человека, приносило мне огромное
облегчение. "Хочешь, я завяжу тебе глаза?" - это был первый и последний
серьезный вопрос, который он мне задал. С этого
мгновения мне больше не пришлось принимать или отвергать (хотя один или два раза
мои возражения были составной
частью ритуала: они призваны были показать мое полное подчинение); речь больше
не шла ни о моих жизненных,
моральных или интеллектуальных вкусах, ни о последствиях моих поступков.
Оставалась только сладостная роскошь быть
зрительницей своей собственной жизни, полностью отказаться от своей
индивидуальности, беспредельно наслаждаться
отречением от собственной личности.
* * *
Я просыпаюсь с легким недомоганием. После завтрака лучше не становится, а
в одиннадцать часов мое состояние
ухудшается. В полдень меня начинает страшно трясти. Я заказываю куриный бульон,
мне его приносят в кабинет, но первая
же ложка кажется мне серной кислотой, а вторую я уже проглотить не могу. В три
часа я сознаю, что это не легкое
недомогание. Я вызываю секретаршу и говорю ей, что я больна и возвращаюсь к себе
домой.
Войдя в квартиру, я с трудом запираю за собой двери. Воздух в комнатах
затхлый. Жарко и душно. Перед
закрытыми окнами пляшет пыль, зеркало над камином ослепительно блестит. Я
добираюсь до кровати, не в силах унять
дрожь, но не могу влезть под одеяло. В конце концов натягиваю себе на плечи
покрывало. Когда я пробую оторвать голову
от подушки, чтобы встать и задернуть шторы, все плывет передо мной, и я
вынуждена закрыть глаза.
Из кошмара, в котором меня пожирают огненные муравьи, меня вырывает
телефонный звонок.
Я сдергиваю покрывало и подношу трубку к уху, не открывая глаз.
- Что-нибудь случилось? - спрашивает он.
- Должно быть, схватила инфекцию или что-то в этом духе.
Теперь я умираю от холода, как будто лежу на льду, а не на стеганом
одеяле.
- Я сейчас буду.
В трубке щелкает, потом начинает гудеть.
- Нет, - говорю я, кладя руку с трубкой на грудь. Я и вправду больна. В
разгар лета! Смешно, тем паче что я вообще
редко болею.
На этот раз меня будит дверной звонок. Я не шевелюсь. Звонок снова
прерывисто звонит. В конце концов, мне
кажется, что шум выносить тяжелее, чем встать. Я, не открывая глаз, тащусь к
двери. Я тупо повторяю ему, что я хочу
остаться дома, но он берет меня за руку, ногой закрывает дверь и ведет меня к
лифту.
- Я никого не выношу, когда я больна, ненавижу, чтобы около меня кто-
нибудь был, - едва слышно говорю я ему на
ухо. - Правда. Я хочу болеть в своей постели, - я даже повысила голос.
- Только не тогда, когда ты настолько больна, - говорит он, заталкивая
меня в лифт.
У меня так кружится голова, что я не могу ответить. Он почти несет меня
до такси, которое нас ждет. Потом снова
лифт, и вот я снова в постели, которую я теперь знаю лучше, чем свою, в одной из
его рубашек.
Я слышу, как сквозь туман:
- Я пойду куплю термометр.
Во рту у меня то все горит, то леденеет. Смутно слышу, как он говорит по
телефону.
Кто-то трясет меня за плечо.
- Это один мой друг. Он лечит на дому.
Надо мной склонился розовощекий мужчина, его зубы измазаны постным маслом
и движутся со страшной
скоростью. Потом он осматривает горло. Позже я снова слышу голос:
- ...пойдите в аптеку за...
Мне дают какие-то таблетки. Я снова пытаюсь объяснить, что не люблю
видеть кого бы то ни было, когда я больна,
и этому правилу никогда не изменяла с подростковых лет. Но у меня все тело болит
так, что всякое усилие мне кажется
чрезмерным.
Я просыпаюсь в строго обставленной комнате. На будильнике четыре часа