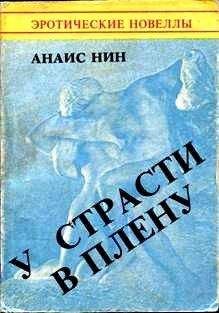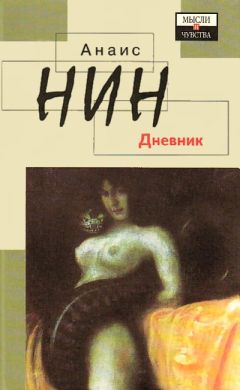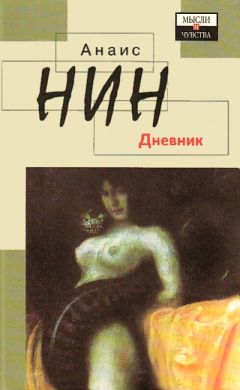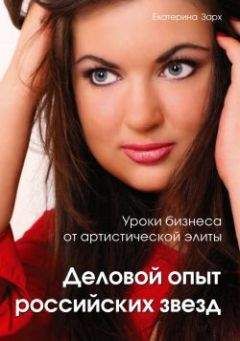Когда она двигалась, яркие линии на ее теле становились подвижны, словно покрытое маслянным слоем море с течениями в глубине. Когда кисть касалась ее сосков, я ощущал, что они тверды, как вишни. Малейший изгиб каждой линии доставлял мне наслаждение. Я расстегнул брюки, высвободил фаллос. Она и не взглянула на меня и продолжала стоять неподвижно. Когда я разрисовал ее бедра и покрытую порослью ложбинку, она поняла, что я не выдерживаю, и сказала: «Если ты начнешь обнимать меня сейчас, то все испортишь. Не трогай меня пока. Пусть все высохнет Я буду ждать тебя на балу. И ты будешь первым. А сейчас не надо». — И она улыбнулась мне.
Разумеется, ее вход остался нераскрашенным. Она разрешила поцеловать ее там, осторожно, так, чтобы не снялась нефритовая зелень и красная китайская тушь.
Бижо пришла в полный восторг от своей африканской раскраски. У нее был вид королевы пустыни. Глаза ее сияли твердым ласковым блеском. Позвенев сережками, она засмеялась, накинула плащ и отправилась на бал. А мне потребовалось несколько часов, чтобы успокоиться, прийти в себя и одеться к балу. Я отправился на него в простом коричневом пальто.
Я уже говорил, что Бижо была из породы неверных. Краска на ней не успела просохнуть. Приехав на бал, я увидел, что не один уже мужчина постарался измазаться об африканские узоры Бижо, — линии их расплылись.
Бал был в разгаре. Ложи полнились сплетенными парами. Все мешалось в одном всеобщем оргазме, и Бижо меня не ждала. Где бы она ни проходила, всюду за ней оставались на полу капли семени, — след, по которому я легко выслеживал ее.
Хильда была прелестной парижской натурщицей. Она безумно влюбилась в американского писателя, который писал так страстно и чувственно, что все женщины тянулись к нему. Ему писали письма, с ним пытались познакомиться через общих друзей. И те, кому это удавалось, поражались его мягкости и благородству.
Хильда испытала то же, что и все. Он был, однако, пассивен, и она сама стала ухаживать за ним. Лишь после того, как она сделала первый шаг и начала его ласкать, он ей ответил, и она получила его любовь. Но каждый раз ей приходилось начинать сначала. Сперва она соблазняла его: поправляла расстегнувшийся пояс, рассказывала о своих прежних любовных историях, или ложилась на его диван, откинув голову и обнажив грудь, потягиваясь, словно огромная кошка. Она садилась к нему на колени, целовала его, расстегивала ему брюки и всячески возбуждала.
Они жили вместе несколько лет и очень привязались один к другому. Она привыкла к его сексуальному ритму. Обычно он ложился на спину, ожидая от нее наслаждений. Она же научилась быть активной и смелой, от чего немало страдала, так как по натуре своей была необыкновенно женственной. В глубине души она была уверена, что женщина может контролировать свои желания, тогда как мужчина не способен на это и, пытаясь сдержать себя, даже испытывает боль. Она чувствовала, что именно женщина должна откликаться на желание мужчины. И мечтала о ком-то, кто оказался бы сильнее ее, кто стал бы властвовать над ее чувственностью, вел бы ее за собой. Она была благодарна писателю, потому что любила его. Она научилась ласкать его фаллос, касаться его так, чтобы он возбуждался, научилась целовать, проникая языков глубоко в рот возлюбленному.
Иногда они подолгу лежали и разговаривали. Прикасаясь к его фаллосу, она чувствовала его твердость. И все же не он делал первое движение. Постепенно она привыкла сама выражать свое желание. Робость и сдержанность уже были не свойственны ей.
Однажды во время вечеринки на Монпарнасе она встретила художника-мексиканца, огромного темноволосого человека с тяжелым взглядом угольно-черных глаз. Он был пьян. И ей сказали, что он был пьян почти всегда. Но увидев Хильду, он впал в состояние глубокого шока.
Перестав шататься из стороны в сторону, он уставился на нее, как огромный лев, внезапно увидевший укротителя. В ней было что-то, заставляющее его стоять неподвижно, стараться снова обрести трезвость, выйти из мира туманов и галлюцинаций, в которых он жил постоянно. Стоя перед ней, он устыдился своей небрежной одежды, краски под ногтями, непричесанных волос. И она тоже оказалась потрясенной видом этого демона, того самого демона, который присутствовал в книгах писателя-американца. Этот художник был огромен, беспокоен, он как будто нес в себе разрушающую силу, он никого не любил, ни к кому не был привязан, он был бродягой и искателем приключений. Он рисовал в студиях у своих друзей, одалживая краски и холсты, оставляя там же свои работы и уходил. Обычно он проводил время у цыган, живя с ними в пригородах Парижа. Он оставался в их цыганских повозках и путешествовал с ними по всей Франции. Он уважал их законы, никогда не спал с цыганками, играл на гитаре вместе с ними по ночным клубам, если им нужны были деньги, и ел вместе с ними краденых кур.
В те дни, когда он встретил Хильду, у него была своя повозка, стоявшая возле одних из ворот Парижа, у старых баррикад. Повозка принадлежала одному португальцу. Хозяин обил ее стены цветной кожей. Кровать висела в задней части повозки, подвешенная, как корабельная койка. В повозке имелись овальные окна, низкий потолок не позволял встать в полный рост.
Мексиканца звали Ренго. Он не пригласил Хильду танцевать с ним, хотя все вокруг танцевали. Огни в студии были потушены, но с улицы проникало достаточно света. Пары выходили на балкон. Музыка была нежной и расслабляющей. Ренго стоял возле Хильды и смотрел на нее. Потом он сказал: «Хотите прогуляться?» И Хильда ответила: «Да».
Ренго шел, держа руки в карманах, сигарета торчала у него во рту. Он чувствовал, что совершенно трезв сейчас, что голова была ясна, как эта ночь над ними. Он шел по направлению к пригороду, мимо нищих хибарок, маленьких хижин, словно построенных сумасшедшим, под покатыми крышами которых не было окон, — воздух проникал внутрь через трещины в стенах и плохо пригнанные двери. К хижинам вели земляные тропинки. Чуть поодаль стоял ряд цыганских повозок. Было четыре ночи, и люди спали.
Хильда не произнесла ни слова. Она шла в тени Ренго с таким чувством, будто ее вынули из оболочки, безвольно, не понимая, что с ней происходит, отдаваясь на волю подхватившего ее течения.
Руки Ренго были открыты. Хильда знала только одно: ей хотелось, чтобы эти обнаженные руки обняли ее. Он наклонился, заходя в повозку. Зажег свечу. Он был слишком высок для этого потолка, но она могла стоять выпрямившись. От свечей шли огромные тени. Постель была открыта, на ней лежало только одно одеяло. Повсюду валялась одежда, у стены стояли две гитары. Он взял одну из них и начал играть, сидя среди одежд. Хильде казалось, что она спит, что она должна неотрывно смотреть на его обнаженные руки и расстегнутый ворот рубашки, передавая ему тот магнетизм, который пронизывал ее.