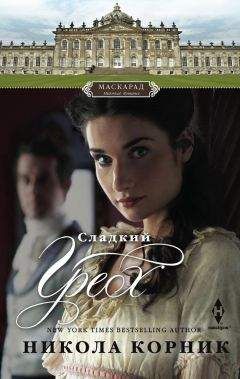— Вы хотите сказать, — начала Лотта, и ей очень хотелось верить, что голос дрожит от негодования, а не от неудержимо накатывающих слёз, — он меня продал за кирасу и меч? Отказался ради нескольких кусков стали?
— Выбирая между славой и любовью, сира, мужчина всегда выберет славу. А сир Адриан полагает, что только отсутствие у него достойного снаряжения стоит между ним и славой одного из лучших рыцарей королевства.
— Я… не верю вам, — сипло прошептала она. — Вы как-то помешали ему встретиться со мной. Он бы никогда так не поступил, я знаю. Вы удерживаете его силой?
Мужчина вздохнул.
— Пошлите ему завтра письмо, — сказал он. — С самого утра. Пусть он сам приедет в замок и и сам объяснится с вами. А теперь давайте я вас отвезу к вашему отцу.
Лотта опустила голову. Почему-то именно этот вздох и безнадёжный голос жениха убедили её в том, что всё им сказанное — правда, и Адриан предал её. Продал за снаряжение, достойное настоящего рыцаря. А раз так, жизнь потеряла всякий смысл. Вернут её к отцу или она умрёт тут под дождём, простудившись — какая разница?
Она равнодушно позволила подсадить себя на лошадь, так же равнодушно восприняла тепло чужого тела за спиной и кольцо рук, поневоле охвативших её, чтобы взять поводья. Она только вяло порадовалась тому, что на ней раздвоенная юбка, и потому не надо сидеть боком, почти на коленях у всадника. И так же вяло позлорадствовала, что её мокрая одежда прижимается к животу и бёдрам мужчины, прикрывшего её своим непромокаемым плащом — мокрая, холодная, мерзкая… Пусть помучается… покупатель…
========== Свадьба ==========
Отец разговаривал с ненавистным ткачом, демонстративно игнорируя дочь, словно её вообще не было в карете. Грядущей свадьбы разговор не касался, да и не предполагалось никакой свадьбы — так, очень скромная церемония, не привлекающая к себе лишнего внимания. Говорили о налогах и ценах, о возможностях очередной войны с Краснолесьем, ещё о каких-то вещах, которые мужчины считают важными и значительными. Лотта толком и не слушала. Отец вёз её в столицу графства, чтобы законным образом продать богатому простолюдину в обмен на выкуп земель из залога — только это имело значение.
Про то, что Адриан точно так же продал любовь к ней, Лотта приказала себе забыть. Раз продал, значит, не так уж и любил. Или не любил вообще, а морочил голову дурочке-бесприданнице, как матушка сказала. Ещё вопрос, — возмущалась она, расхаживая по спальне дочери, где та была заперта до самого отъезда, — женился ли бы. А то началось бы: «не сейчас», «попозже», «пока нет возможности» и прочие мужские штучки, когда они, мужчины, то есть, увиливают от своих обязательств. А потом оглянуться не успеешь — на руках у тебя непризнанный бастард, денег нет, мужа нет, идти некуда… или ты думаешь, отец принял бы тебя обратно с ребёнком от нищего безземельного дворянчика, брату которого законных бы племянников прокормить, не то что ублюдка?
Лотта стояла, уставившись в пол. Сказать ей было нечего, кроме: «Я его ненавижу!» Не Адриана, понятно — при мыслях о нём становилось так больно, что ясно было: не удастся ей забыть своего предателя. Ненавидела она того ремесленника, который вздумал жениться на девице из первого сословия, да не просто на дворянке, а на дочери барона Медных Холмов! И как только отец мог согласиться на такой брак? Подумаешь, денег тот давал! Она не овца и не породистая собака, чтобы её продавать! Её бесконечно возмутило и обидело, когда Валентин с порога её комнаты швырнул ей на кровать ту самую верёвку и, глядя мимо сестры, процедил: «Отец сказал, лучше бы ты на ней повесилась. Твоё счастье, что Вебер не отказался от брака и вообще не стал устраивать скандал». Вот так. Даже родные братья рады сбыть её с рук. Может, действительно стоило повеситься? Никому она не нужна, никто её не любит… Даже матушка закончила её отчитывать и ушла, очень недовольная тем, что дочь ни в чём не раскаивается и прощения просить не собирается.
Так она и просидела почти четыре дня одна-одинёшенька, только поесть ей приносили утром и вечером. Однако о побеге, как поняла Лотта, не пронюхала даже пронырливая Анна, а уж та откуда-то всегда знала всё, нечего и говорить про встречи своей юной хозяйки с младшим соседским сынком. Заплатить наглой твари за молчание было нечем, приходилось давать ей кое-какие поблажки, совершенно незаслуженные. Но даже она была уверена, что Лотту заперли просто из-за того, что она отказывалась замуж выходить по-хорошему. «И чего вы упрямитесь, ваша милость? — изумлялась Анна. — Господин Вебер не старый ещё, собой не урод, обхождения тонкого, куда там вашему нищеброду! А уж одевать вас как будет — вся городская родня от зависти удавится…» Лотта вяло огрызалась, не рискуя, впрочем, злить служанку всерьёз — мало ли, что та могла сболтнуть отцу.
А потом её посадили в гномьей работы карету на пружинных рессорах, напротив сели отец и, Девятеро прости, жених. Пара породистых гнедых легко покатила мягко покачивающийся возок, мужчины заговорили о важных — о, безусловно, государственной важности! — делах, а Лотта просто молча смотрела в окно. Хотя на что там было смотреть? Все окрестности замка были ею в своё время изучены до последней кротовьей норы, потому что с тремя братьями остаётся или расти таким же сорванцом, или скучать в одиночестве. Было тоскливо, хотелось плакать, но разумеется, об этом и речи быть не могло. В конце концов, она просто уснула и проспала почти половину пути до первого трактира.
В Излучине Светлой Вебер снял для них с отцом роскошный номер из двух спален и гостиной между ними. Отец, как показалось Лотте, охотно запер бы её и на постоялом дворе, но в первое же утро за нею явилась сурового вида сухопарая женщина, одетая как состоятельная простолюдинка, и передала его милости барону нижайшую просьбу господина Вебера отпустить сиру Шарлотту по лавкам и мастерским. Сопровождать сиру будет она, Гризельда, управительница господина Вебера, а чтобы не случилось чего, он приставил к ним охрану. Тоже женщину, ваша милость, так что никаких глупых сплетен и слухов не последует. А его милость барона господин Вебер просит прибыть в ратушу сразу после завтрака, если только у того нет каких-либо более важных дел.
На первую просьбу отец, кажется, собирался ответить отказом, но управительница явно ему понравилась — вот уж кто наверняка и прислугу держит в крепком сухом кулачке, и своё место знает. Так что он, хоть и с неохотой, согласился отпустить дочь, даром что она никакой прогулки, да ещё и по лавкам, не заслужила. А на вторую просьбу ответил, что в Излучину для того и приехал, чтобы заниматься делами, и в ратушу прибудет примерно через час.
У Лотты, честно сказать, не было никакого настроения гулять, но её согласия никто не спрашивал. Ей было велено одеваться и идти с… как тебя, милочка? Гризельда?.. идти с Гризельдой.
Идти, впрочем, не пришлось — во дворе ждала щегольская лёгкая коляска, возле которой скучала рослая и плечистая, куда там иному мужчине, девица орочьих кровей. По случаю солнечной, хоть и прохладной погоды кожаный верх был опущен, но Лотта потребовала его поднять.
— Да ведь вы так города толком не увидите, — удивилась орочья полукровка, или кто она там была.
— Ну и пусть, — буркнула Лотта. Плащ ей высушили и отчистили от грязи и колючек, но всё равно он выглядел старым, линялым и вообще нищенским на фоне дорогой и нарядной коляски. Лучше уж пусть смотрят на крылья из отстроченной мягкой кожи, чем на девицу, нервно кутающуюся в кусок облезлого сукна.
— Тогда, — сказала управительница, переглянувшись с охранницей, — едем сразу к госпоже Лукреции.
— Ладно, — сказала та, пожимая плечами, так что тусклые блики метнулись туда-сюда по пластинам матовой чернёной брони (Лотте сразу подумалось, что за такую Адриан не то что невесту — родную сестру бы продал). — К портнихе — так к портнихе. Эй, малый, садись, подкину, а то далёко бежать-то.