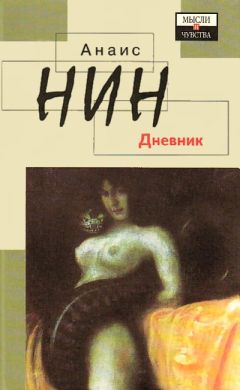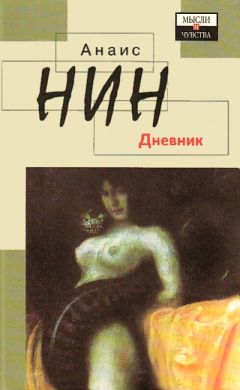Генри продолжает:
— В тот вечер я был ближе всего к тому, чтобы изменить тебе.
Я не уверена, действительно ли так сильно хочу, чтобы Генри хранил мне верность, потому что внезапно понимаю: само слово «любовь» сегодня меня утомляет. Любовь или нелюбовь. Фред говорит, что Генри меня не любит. Я понимаю, что необходимо избегать любых осложнений, и желаю этого в первую очередь самой себе. Увы, женщины не могут этого добиться, они слишком романтичны.
Предположим, что я не хочу любви Генри и говорю ему: «Послушай, мы взрослые люди. Меня тошнит от всех этих фантазий и эмоций. Не произноси слово „любовь“. Давай разговаривать столько, сколько нам хочется, и заниматься любовью только тогда, когда мы сами хотим этого. Не будем примешивать к этому любовь!»
Как все они серьезны! А я вдруг почувствовала себя старой и циничной. Я устала от бесконечных требований и больше часа чувствовала себя бесчувственной. За мгновение я могла разрушить свою легенду, уничтожить все, кроме самого главного — моей страсти к Джун и обожания Хьюго.
Возможно, мой интеллект выделывает очередной кульбит? Или это называется осознанием реальности? Где вчерашние чувства, где то, что я испытывала сегодня утром? И что случилось с моей интуицией, когда вместо Фреда на свидание пришел Генри? Я не поняла, что он пьян, и прочла ему из дневника о его силе, сообщив, что он может сломить меня, а потом обиделась, когда он не понял. Фарсовость ситуации меня задела. Я спросила:
— Как выглядит Фред, когда он пьян?
— Становится смешным, веселым и всегда свысока относится к проституткам. Они это чувствуют.
— А ты, конечно, с ними более чем дружелюбен?
— Да, я болтаю с ними, как гостиничный носильщик.
Да, все это не доставляет мне никакого удовольствия, холодит душу, заставляя чувствовать какую-то пустоту внутри. Однажды я пошутила, сказав, что когда-нибудь пришлю телеграмму: «Никогда не приходи ко мне больше, потому что ты не любишь меня». А вернувшись домой, подумала, что завтра мы с Генри не увидимся. А если увидимся, то больше не будем врать друг другу. Завтра я скажу Генри, чтобы он не беспокоился насчет любви. Но как быть со всем остальным?
Сегодня вечером Хьюго сказал, что мое лицо сияет. Я не могу сдержать улыбку. Нас ждет банкет. Генри уничтожил мою серьезность. Она не вынесла столь разных его ипостасей — попрошайка и Господь Бог, сатир и поэт, безумец и прагматик.
Когда Генри наносит мне удар, я не рыдаю и не отвечаю ударом из-за своей чертовой понятливости. И что бы я ни воспринимала с пониманием — Генри и его проституток, — я не могу с этим бороться. Просто, поняв, я тут же это принимаю.
Генри сам по себе — огромный мир, и я не удивлюсь, если он вдруг начнет воровать, убивать или насиловать. Итак, я все поняла.
Вчера, во время нашего свидания, я впервые увидела злорадного Генри. Он пришел, скорее чтобы позлословить о Фреде, чем чтобы повидаться со мной. Он упивался собой, говоря: «Фред работает. Как это, должно быть, для него унизительно». Я не хотела выбирать занавески без Фреда, но Генри настоял. Не знаю, придумала я это или нет, но мне показалось, что он радовался своей бесчувственности. «Я получаю столько же удовольствия, совершая зло…» — говорил Ставрогин. Мне это удовольствие незнакомо. Я подумала, не послать ли Генри телеграмму, а Фред в этот момент произносил: «Я люблю тебя». Мне захотелось увидеться с ним и утешить. Злорадство Генри поражает. Он говорит:
— Мне всегда нравилось занять у кого-нибудь деньги и потратить половину на телеграмму тому, кто дал мне в долг.
Когда нечто подобное выплывает из затуманенного, пьяного сознания Генри, я подмечаю в нем черты бесовства, какое-то тайное наслаждение собственной жестокостью. Джун покупала Джин духи, а Генри голодал; ей доставляло удовольствие прятать в своем чемодане бутылку мадеры, когда Генри с друзьями сидел без гроша в кармане, безнадежно мечтая что-нибудь выпить. Меня удивляют не поступки, а удовольствие, которое эти люди получают, ведя себя так. Генри вынужден издеваться над Фредом. Джун заходит гораздо дальше, причем делает все напоказ, например, резвится с Джин в доме родителей Генри. Эта тяга к жестокости неразрывно связывает Генри и Джун. Оба были бы рады унизить меня и уничтожить.
Мне кажется, что прошлое гнетет меня, как проклятие. Оно источник каждого моего движения, каждого произнесенного мной слова. Иногда прошлое одерживает верх над настоящим, и тогда Генри отступает в небытие. Пугающая сдержанность, неестественная чистота овладевают мной, и я отгораживаюсь от мира. Сегодня я девица из Ричмонд-Хилла, я пишу на столике из белой слоновой кости, просто так, ни о чем.
У меня нет страха перед Богом, но иной страх — перед дьяволом — не дает мне спать по ночам. Но если я верю в Сатану, то должна верить и в Господа. Раз зло несовместимо со мной, наверно, я святая.
Генри, спаси меня от причисления к лику святых, от ужаса неподвижного совершенства! Низвергни меня в преисподнюю!
Вчера я виделась с Эдуардо, что еще больше усилило холодность и бесстрастность моих рассуждений. Я слушала, как Эдуардо объясняет мои чувства. Должна признаться — звучит правдоподобно. Я внезапно охладела к Генри, потому что увидела его жестокость к Фреду. Жестокость в моей жизни всегда была самым неразрешимым противоречием. Я постоянно сталкивалась с ней в детстве: отношение отца к матери, садистские наказания моих братьев и меня самой. Когда родители ссорились, я так жалела маму, что впадала в истерику. От детских лет мне осталась хроническая неспособность к жестокости, почти слабость характера.
Присутствие в характере Генри даже намека на жестокость позволяет предположить, что он способен и на большее. Более того, Фред пробудил во мне скрытые чувства. Он понял меня через воспоминания, которые Эдуардо считает неким регрессом, впаданием в детство, что способно сдерживать мое дальнейшее взросление.
Мне необходимо довериться кому-то, мне даже захотелось позволить кому-то собой руководить. Эдуардо заявил, что пора обратиться за помощью к психоаналитику. Он всегда на этом настаивал, уверяя, что мы могли бы беседовать на разные темы, а доктор Алленди станет руководить, «играть роль отца» (Эдуардо обожает искушать меня этим образом). Почему же я сопротивлялась, вместо того чтобы сделать своим психоаналитиком самого Эдуардо? Это лишь давало отсрочку выполнению истинной задачи.
— Наверное, мне нравится смотреть на тебя снизу вверх, — признаюсь я.
— Вместо того чтобы позволить между нами другие отношения, которых ты не хочешь?
Удивительно, но этот разговор замечательно повлиял на мое настроение. Я только что не пела. Хьюго ушел по своим делам. Эдуардо продолжал анализировать. Он был необыкновенно красив. В течение всего обеда я любовалась его лбом и глазами, профилем, губами и лукавым выражением лица. Редкую красоту Эдуардо я впитала позже, когда в нем проснулось желание, вобрала так, будто вдохнула воздух, или случайно проглотила снежинку, или подставила лицо солнечным лучам. Мой смех избавил его от необходимости быть серьезным. Я сказала, что люблю его зеленые глаза. Я захотела и получила этого случайного любовника. Но я спровоцировала моего доморощенного психоаналитика, заставила заняться любовью с пациенткой.