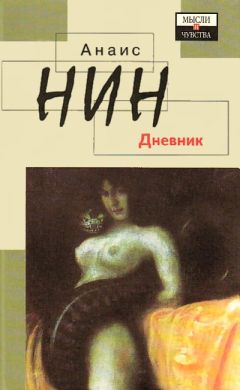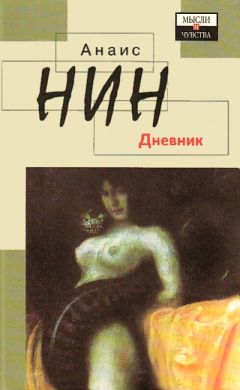— Вместо того чтобы позволить между нами другие отношения, которых ты не хочешь?
Удивительно, но этот разговор замечательно повлиял на мое настроение. Я только что не пела. Хьюго ушел по своим делам. Эдуардо продолжал анализировать. Он был необыкновенно красив. В течение всего обеда я любовалась его лбом и глазами, профилем, губами и лукавым выражением лица. Редкую красоту Эдуардо я впитала позже, когда в нем проснулось желание, вобрала так, будто вдохнула воздух, или случайно проглотила снежинку, или подставила лицо солнечным лучам. Мой смех избавил его от необходимости быть серьезным. Я сказала, что люблю его зеленые глаза. Я захотела и получила этого случайного любовника. Но я спровоцировала моего доморощенного психоаналитика, заставила заняться любовью с пациенткой.
Бегом поднимаясь по лестнице, чтобы причесаться, я уже знала, что на следующий день поспешу на свидание с Генри. Чтобы избавить меня от страхов, он прижимает меня к стене в своей комнате и целует, шепча, чего хочет сегодня от моего тела, каких жестов, каких движений. Я подчиняюсь, он доводит меня до безумия. Мы преодолеваем фантасмагорические препятствия. Теперь я знаю, почему полюбила его. Даже Фред, пока не ушел, выглядел не таким несчастным. Я призналась Генри, что и не ждала от него идеальной любви, зная, как он устал от сложностей жизни. Я стала мудрее, во мне проснулось чувство юмора, и ничто не прервет наши отношения, пока мы сами не пресытимся любовью. Мне кажется, я впервые в жизни поняла, что такое наслаждение, и рада, что так много смеялась прошлой ночью, счастлива, что пою сегодня, горжусь, что так легко ушла из дому (Эдуардо еще оставался в Лувесьенне, когда я, взяв пакет с занавесками, отправилась к Генри).
Незадолго до того мой брат Хоакин и Эдуардо говорили в моем присутствии о Генри. (Хоакин прочитал мой дневник.) Они считают, что Генри — это разрушительная сила и что он выбрал меня — силу созидающую, чтобы проверить свою власть. Еще им кажется, что я околдована магией литературных полутонов (это правда, я люблю литературу), но что я буду спасена — не помню как, но обязательно буду, даже несмотря на мое сопротивление.
Я лежала и чувствовала себя счастливой, потому что решила: сегодня Генри будет моим. Я улыбнулась.
На первой странице красивой тетради в пурпурной обложке, которую мне подарил Эдуардо, я написала имя Генри. Не нужен мне никакой доктор Алленди, не нужны никакие психоаналитики, парализующие чувства и мысли. Я хочу просто жить.
Когда Генри слышит в телефонной трубке красивый, вибрирующий, преданный и сердечный голос Хьюго, он начинает ненавидеть порочность всех женщин, в том числе мою. Себе он позволяет быть неверным и предавать, но измена женщины его задевает. Я всегда ужасно расстраиваюсь, когда Генри пребывает в таком настроении. Я чувствую, что верна нашим неразрывным узам с Хьюго. Ничто не может разрушить нашу любовь, потому что я люблю, отбросив лицемерие и притворство. Этот парадокс терзает меня. Я перестала быть совершенной, такой, как Хьюго, я достойна презрения, — и это другая ипостась моего существа.
Генри понял бы, если бы я забыла о нем ради Хьюго, но я не могу притворяться. Одно мне ясно: если когда-нибудь придется выбирать между Хьюго и Генри, я без малейших колебаний выберу Хьюго. Свобода, которую я позволяю себе от имени Хьюго, как подарок от него, только увеличивает все богатство и поэзию моей любви. Аморальность, или усложненное понимание морали, интересуется традиционной верностью, забывая о буквальном смысле этого понятия. Я разделяю гнев Генри, но не по поводу несовершенства женщин, а по поводу испорченности и безнравственности жизни как таковой; и эта книга повествует об этой грязи, может быть, даже громче, чем все проклятия Генри.
Вчера Генри пригрозил напоить меня, но я поддалась, только прочитав тонкие и кристально чистые письма Фреда к Селин. Наша беседа обрывалась и возобновлялась, как в калейдоскопе. Когда Генри ушел на кухню, мы с Фредом заговорили так, как будто мы перекинули мост из одной крепости в другую и больше не можем ничего утаивать друг от друга. Слова нескончаемым потоком текли по мосту, проржавевшему от чрезмерной тяги к уединению. Потом появился Генри; он всегда общается с миром, как будто председательствует на гигантском банкете.
В маленькой кухне мы сидим почти неподвижно, почти касаясь друг друга. Генри пошевелился, чтобы положить руку мне на плечо и поцеловать, Фред отвернулся. Я сидела, сгорбившись под тяжестью двух разных чувств. Было тепло Генри, его голос, его руки, его губы. И были чувства Фреда ко мне, они затрагивали более потаенные уголки моей души, поэтому, когда Генри целовал меня, мне хотелось протянуть руки к Фреду и приблизить к себе оба чувства сразу.
Генри обуяла всеобъемлющая щедрость.
— Я отдаю тебе Анаис, Фред. Ты видишь, ты прекрасно знаешь, какой я. Я хочу, чтобы все любили Анаис. Она удивительна.
— Она слишком удивительна, — ответил Фред. — Ты ее не заслуживаешь.
— Ты больно жалишь, — воскликнул уязвленный гигант.
— Кроме того, — продолжил Фред, — тебе и не надо отдавать мне Анаис. У меня есть собственная Анаис, и она не похожа на твою. И я получил ее, не спрашивая разрешения ни у кого из вас. Оставайся на всю ночь, Анаис. Ты нужна нам.
— Да, да! — закричал Генри.
Я показалась сама себе идолом. Фред раскритиковал моего гиганта, потому что тот посмел не обожать меня.
— Проклятье, Анаис! — воскликнул Генри. — Я не преклоняюсь перед тобой, но люблю тебя. Я чувствую, что могу дать тебе так же много, как Эдуардо. Я бы никогда не смог обидеть тебя. Когда я вижу, что ты вот так сидишь передо мной, хрупкая и нежная, я понимаю, что никогда тебя не обижу.
— Я не хочу преклонения, — отвечает идол. — Ты даешь мне… ну, то, что ты даешь мне, — это лучше, чем преклонение.
У Фреда дрожат руки, когда он протягивает мне бокал вина. Вино разбередило меня до самых недр, все во мне дрожит и пульсирует. Генри на минуту выходит. Мы с Фредом молчим. Когда-то он сказал: «Нет, я не люблю шумные банкеты. Мне нравятся такие обеды, как этот, на двоих или на троих». А теперь между нами повисло тягостное молчание, и я чувствую себя придавленной к земле. Возвращается Генри и просит Фреда оставить нас наедине. Он едва успел прикрыть за собой дверь, а мы с Генри уже наслаждаемся друг другом. Мы оказываемся в нашем беспощадном первобытном мире. Он кусает меня, заставляет мои кости хрустеть, кладет меня, широко раздвинув ноги, и погружается в мои глубины. Наши ласки становятся похожими на звериные, наши тела как будто бьются в конвульсиях.