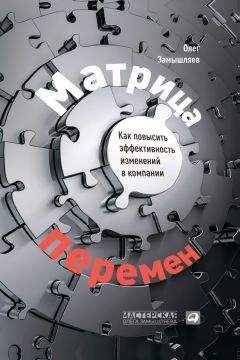— А угадай…
— Нет! Нет! Только не там!
Паула поддакивает, сдерживая смех.
— Ну скажи, что нет! Неужели на заставе показывала?
— На скамейке, на заставе. И еще приговаривает: «Знаю я, что это профанация, в таком месте показывать такие святые вещи, но тебе я все же покажу», — достает именно из такого пошлого пакета из гипермаркета и показывает золотые медальоны. И ей это не претит. Ох уж эта наша Мария, вот увидишь, она кончит, как Ролька.
— А ты внутрь этих медальонов хоть заглянула?
— Ты че, они запаяны навечно! Ничем не откроешь.
Я ее спрашиваю, собирает ли она еще эти реликвии, или у нее только те, что от старых времен остались, а она, что змей ее уже однажды соблазнил и, с той поры как вкусила запретный плод, она, грешница, прекратила собирательство, то есть остатки приличия в ней сохранились.
Др-др-др! Анна:
— Иду я, значит, по вроцлавским Кшыкам и вижу: старая такая сосалка, понимаешь, опустившаяся до попрошайничества, до уголовщины, эдакий дядька, на весь мир за свои беды обиженный. Я ей улыбаюсь, а она шепчет, как ведьма, приказным тоном: «Вали отсюда! Ну… Быстро, сука ты мужская, здесь тебе не застава! Чтоб духу твоего тут не было!»
— Андя, а что я вчера пережила… Ты ведь знаешь, я из приличной еврейской семьи, чтущей традиции. Я хоть в какой бедности ни окажусь, класс не потеряю; это вопрос крови и вкуса, а не денег. Я всегда фарфор от Хутшенройтера на Низких Лугах покупаю… И знаешь, некоторые слова при мне произносить нельзя, я их просто не принимаю к сведению. Например, это слово на «г», которое все теперь на своих участках устраивают и дыму напускают… Нет, я такого не делаю, я устраиваю «гарден-парти» с бокальчиком отличного французского вина из шато, от нашей Нади Надеевны Епанчин…
Вот именно, вино. Встречаю одного мужика, натурала, который постоянно меня доставал с известной целью. Говорит: жена уехала, приезжай ко мне. Куда-то аж на Ковали. А мне совсем не хотелось к нему ехать, думаю, если кавалер на Ковалях живет, это не для меня… Но все же поехала, потому что уже неудобно было отказывать. Темно, холодно, страшно по этим Ковалям идти. Улица на километр тянется, и все никак не дойду, нет такого адреса. В конце концов оказалось, что он живет в какой-то старой школе, перестроенной под дешевые квартиры, Аня, не поверишь — форменный курятник! Как люди живут! Представляешь: ты входишь, и в нос бьет вонь, повсюду гниль… Малюсенькая клетушка, гнетущая, а что меня добило, так это старый телевизор, а на нем большая запыленная собака, талисман, и лапа этой собаки спадает на экран. Я думала, мне плохо станет. Уже сам факт наличия такого телевизора вызывает подозрение, но этот талисман! Верх пошлости, а еще — если бы он сразу приступил к делу. Нет, он, видимо, насмотрелся американских фильмов, и ему в голову стукнуло, что он проведет со мной романтический вечер вдвоем (ребенок спит в соседней комнате). За руку меня хватает, как, мол, насчет домашнего вина, выпьешь? А я на это, мол, не понимаю, что такое «домашнее вино». Что это такое? Aucune idée:[55] «домашнее вино»? Cʼest quoi?[56]
Он:
— Ну, я вино из винограда сделал!
Я:
— Я не знала, что в этой унылой стране делают вино… Je ne savais pas que dans ce pays triste on fabrique le vin!
Он обиделся. О сексе, само собой, уже ни слова. Но как так люди живут! Как там воняло, какая пошлость, а сколько разных запыленных афиш американских фильмов, ясное дело: грязь, смрад, но DVD быть должен! И мне тут в дюралексе[57] чай подают (представляешь: в ДЮРАЛЕКСЕ!), но DVD обязательно… Figure-toi, та pêtite, il existe les maisons dans notre pays triste où on sert le café dans une tasse, o! non, non, non! Pas dans une tasse, mais danse une bidule quʼils appellent ʼduralexʼ, mon Dieu! Cʼest vraiment horrible![58] Атмосфера душная, как будто в пыльном ломбарде, как будто на витрине меняльной конторы, ломбарда: какие-то запыленные искусственные цветочки, розы из поролона, крашенные, грязные… И среди всего этого крошка-сынок за стенкой да я как на иголках: как мне потом возвращаться с этих Ковалей?
И я среди всего этого, вся такая прямо из Парижа, где, между прочим, ходила на премьеру фильма Альмодовара «Дурное воспитание». Доложу тебе, mon ami, маленький кинотеатрик, парижская премьера, в зале одни тетки, ведущие себя просто возмутительно! Они там теряли сознание, визжали, требовали подать им нюхательную соль, говорили, что это о них, об их жизни, что они не могут уже на это смотреть, хабалили по-французски, совокуплялись и пели! Говорю тебе: мы все на их фоне скромные пионерки.
— Ты не представляешь, дорогая Михалина, какую большую роль в моей жизни сыграл один жест: меня берут за руку. Как этот жест через всю мою жизнь прошел, как возвращался в самые необычные моменты. Мужчина хватает меня за руку и куда-то ведет.
Паула сидит на одеяле, в большой белой шляпе. Рассказываем друг другу то, что до сих пор куда-то от нас ускользало, несмотря на пятнадцать лет знакомства.
— Впервые этот жест появился, когда мне было лет примерно шесть. У нас в городке был один такой сорванец с оттопыренными ушами, рыжий, в веснушках, лопатки торчат, лупоглазый… Короче, все на нем топорщилось, подмигивало… Уже в школу ходил, но учился хуже всех. Тетка, работавшая уборщицей в этой школе, как-то рассказывала, что однажды он влез на высокий шест посреди спортплощадки, на который поднимали флаг во время линеек. Туда к нему целые делегации приходили, умоляли, слезь, Анджей, слезь… Фельдшерица школьная, учительницы — а он ни в какую. Уперся и только смеется, щерит желтые свои зубы, а просветы между зубами большие, а лопатки выпирают, а уши торчком, эх, торчком. Шест мерно раскачивается то влево, то вправо. Так и не слез. Вот он какой. Сам мне потом рассказывал, как на всех сверху смотрел.
Помню то время как просто невероятное, помню болота, какие-то придорожные алтари с Богородицей. Помню, раз допустил я святотатство, вынул фигурку из придорожного алтарика, а она оказалась пустой внутри — эдакая «Богоматерь Бутылка» с отвинчивающейся головкой, прикрепленная ржавой проволокой к полочке. Вот они, подумал я, вот они, чары-то, и развеялись… И только так подумал, как из фигурки выскочила живая ящерка, прямо мне на руки…
Короче, возвращаюсь к рукам. Однажды этот сорванец предложил мне: «Давай рванем отсюда». А у меня тогда была вырезанная то ли из «Пшекруя», то ли из какого другого журнала картинка Антарктиды. Он и стал подбивать меня бежать в Антарктиду, а сам спрашивает, не знаю ли я, где эта самая Антарктида находится. Я и говорю, что где-нибудь поблизости, где ж ей еще находиться. Наверняка за болотами.