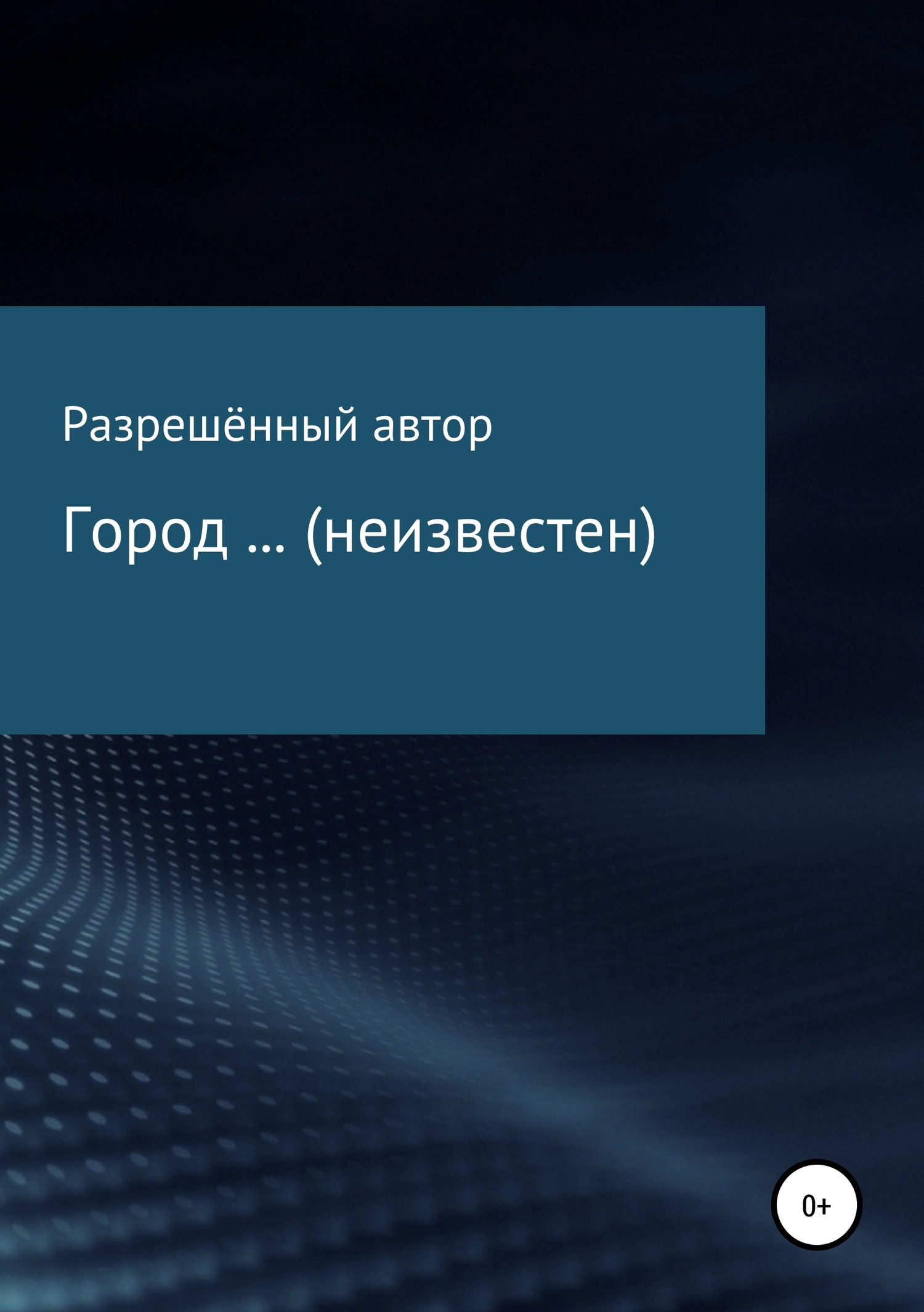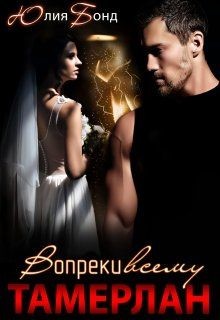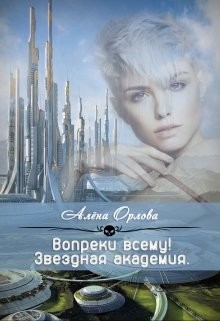«Так, кроватку сюда-а-а… Столик ближе к окошку. Кошечку на диван… нет, кошечку на кроватку… Надо не забыть только по математике решить две задачи, и можно будет тогда кукол ещё рассадить», ― хаотично бормотала Микаса, нервно почёсывая то лоб, то предплечье.
Леви сжал руки в кулаки, подавляя щекотку в носу: «Это я виноват, это я виноват…»
Он пил в основном по праздникам, но гадкое пойло Бруно, одиноко стоящее в холодильнике, привлекло внимание Леви. Он глушил стопку за стопкой в маленькой кухне, пока не ощутил упоительную лёгкость.
Стемнело.
Микаса подглядывала из-за угла за тем, что творилось на кухне, и серые глазёнки ритмично бегали туда-сюда. Споры, осуждения, тихое увещевание, обрывки фраз.
― Сколько ещё ты будешь жить с этим скотом?
― Я люблю его.
― Переезжайте ко мне, ты и Мика. Хватит уже этого нищенского убожества.
― Не смеши меня! Сам-то пока едва концы с концами сводишь.
― Да уж не бедствую, как некоторые!
― Оставь всё это. Никуда мы не полетим. И мужа я не брошу.
― Тц! Какая же ты всё-таки идиотка, Харуми…
Вспотевшие детские пальцы крепче впились в выпирающий угол стены. Микаса припала щекой к оторванному куску обоев и тихо замычала. Позади раздалось шарканье, и зловещий свет мелькнул из-под двери родительской спальни. Кряхтя, в коридор вышёл Бруно, подковылял к падчерице и опустился подле неё на колени.
― Вот зачем ссоры из дома выносишь, а? Кому от этого легче стало?
― Дядя Леви просто спросил… Ты же и правда иногда меня обижаешь, ― нахмурив брови, дрожащим голосом произнесла Микаса.
― Я всегда прошу прощения! Ты ведь знаешь, что я люблю тебя, моя маленькая. ― Он трагически приложил к груди ладонь. ― А теперь мы ещё больше все рассорились. Я вот пострадал, опять не смогу искать работу. И всё из-за тебя, из-за того, что болтаешь лишнее.
― Прости меня, Бруно, ― жалобно процедила Микаса и обняла отчима, захныкав на его плече.
Чувство острой, ничем неизгладимой вины резало её изнутри. Она больше не станет болтать. Ведь Бруно любит её, он сам так сказал. Даже на колени встал! Ему просто сейчас тяжело, мама много раз говорила, что нужно его поддержать в это непростое время.
― Что здесь за цирк? ― спросил вышедший из кухни Леви. ― Не смей прикасаться к ребёнку, падаль!
― Но, дядя Ле…
― Мика, оденься теплее, шапочку красную возьми, которую я привёз, и пойдём погуляем немножко.
― Леви, уже десять часов, ей скоро спать ложиться, ― вмешалась Харуми.
― Я сказал, что хочу погулять с племянницей. Лишь бы не с вами, уродами, время коротать… Мика, одевайся скорее.
― Уже бегу! ― шмыгнув носом и утерев слёзы, пискнула она, затем улыбнулась. ― Вы только не ссорьтесь больше. Я вас очень люблю, вы все моя семья.
― Мика, ― строго повторил Леви.
― Слушаюсь, мой капитан! ― Она шутливо отдала честь и юркнула в свою комнату.
Он вёл её за собой по белоснежному скрипучему полотну, глотая морозный воздух и морщась от света фонарей. Под расстёгнутое идеально скроенное пальто забирался колючий холод, царапал горячую кожу, но Леви не обращал на это внимания. Он держал в ладони маленькую ручку, и стыд растаскивал его на куски: «Чтобы увести Мику от пьяной скотины, её взяла с собой погулять другая пьяная скотина… Что я за выродок? Переломать бы себе к чертям руки и ноги!»
Микаса не могла оторвать взгляда от покрытой белыми хлопьями черноволосой головы дяди, от энергичного мельтешения его руки, очерчивающей искры звёзд и бледный полумесяц в чёрной непроглядной вышине. Её добрый ворчливый фей рассказывал ей сказки о созвездиях, суховато, но искренно посмеивался над её шутками, бубнил, что на улице мокро и противно.
― Так ты же сам не взял ни шапку, ни шарф, ещё и расстёгнутый идёшь, ― деловито заметила Микаса. ― Заболеешь ведь.
― Дурак, хрен поспоришь. ― Он виновато выдохнул. ― Это чего там за огоньки? Парк аттракционов, что ли? Хочешь на карусели, мала́я?
― Пошли, пошли! ― Она начала весело трясти его за руку.
Он купил ей билет, а сам расположился на скамье, за оградкой. Перед тем, как сесть на карусели, Микаса сняла свои варежки и натянула их на руки дяди. Леви с благодарностью и скепсисом оглядел свои наполовину укрытые от мороза конечности и издал тугой смешок.
На снегу отпечатались следы сапожек убегающей Микасы.
У неё должно остаться хоть что-то хорошее от этого поганого вечера. Карусель не укружит её далеко к волшебным звёздам, но Микаса хотя бы будет смеяться. Леви укутался в пальто и неотрывно наблюдал за вращением качелей. Ему казалось, что на них в небеса уносится громкоголосое счастливое детство.
Снег продолжал укрывать его равнодушной белизной.
― Леви, смотри! ― кричала ему с каруселей Микаса и махала рукой.
Его родной светлячок кружился в потоке аляпистого света. Огоньки смазались и растеклись в угловатые осколки витражей. Леви спрятал лицо в ладонях, давясь слезами. Он вдыхал прелый запах испачканных синтетических варежек и чувствовал себя бесполезным и никчёмным. Лучше бы грёбаный снег превратил его в сугроб и похоронил под собой!
― Смотри! Смотри! ― всё кричала Микаса, но слова застряли в горле, стоило ей приглядеться к дяде.
Она летела сквозь холодную тьму и не могла отрастить крылья, чтобы спуститься к нему и крепко обнять.
«Если бы я держала рот на замке, ничего не случилось бы. Умри я прямо сейчас, разбившись на этой карусели, мама с Бруно больше никогда не поссорятся, а дядя Леви не будет плакать».
Микаса уяснила с самого детства: молчи, не выноси ссор, терпи, твои чувства не важны, «во всём виновата ты». Уяснила, что она плохой человек и только всё портит.
Сквозь эту бездну Эрен хватал её за руку и тащил за собой. Туда, где безопасно. Туда, где светло и незнакомо. Микаса и не думала, что может быть настолько кому-то нужна. Просто так. Не могла поверить, когда он твердил, что она ни в чём не виновата. «Он либо ангел, либо дьявол под маской ангела», ― с опаской говорила себе Аккерман, принимая его доброту. Ангельская маска всё никак не спадала, и она в напряжении ждала подвоха. Но чёрта с два! Эрен оставался Эреном ― безрассудным дурнем, готовым ради неё на опасности, утешающим другом, опорой и самым нежным из мужчин. Он показал ей целый мир за пределами обшарпанных стен опостылевшего дома. Неужели он настолько милосерден, что не видит гнили, пожирающей её изнутри? Когда Микаса думала об этом, то боялась даже прикоснуться к Эрену не вымыв руки, словно могла испачкать его грязью, которая с детства покрыла её толстой коркой.
«Однажды он поймёт. Однажды увидит, какая я омерзительная. Лучше оставить его раньше, чем он разочаруется во мне», ― сжимая одеяло и глотая слёзы, размышляла тревожными ночами Микаса. Куда проще выставить его никчёмным в своей голове ― так проще уйти. Проще поступить как шлюха, проще наконец-то получить долбаные деньги, о которых она так мечтала!
«Эрен знает, что я хочу выбраться из нищеты, знает, что я всегда грезила деньгами. Знает, какая я жалкая и мелочная. Ну почему он не осуждает меня?! Какого чёрта не видит?.. Он не сможет дать мне то, что я ищу, и будет страдать. Я этого не вынесу. Я всё решу сама. Будет больно, но он переживёт. Это куда лучше, чем отдать себя гнилой девчонке, которая его не любит и не ценит… Такие испорченные, как я, могут любить лишь таких, как господин Дементьев».
***
Май 2020-го года
Этот сон отличался от всех, что когда-либо снились Эрену. Он шёл по цветущему лугу, и тёплый ветер — настоящий, осязаемый — гладил кожу, прятался в складках одежды. Впереди надвигались тёмные тучи, но с ними спорило неугомонное солнце. Обернувшись, Эрен вдруг увидел свою Микасу в шёлковом полупрозрачном платье; её волосы стали гораздо длиннее, и кончики прядей касались ключиц. Пленительная. Родная. Он протянул руку в неутолимом желании прикоснуться к белой коже, но замер на полпути, разглядев в чертах Микасы почти скорбную тоску.
Небо укрыли зловещие облака, вдали прогремело, пространство закружилось, исказилось, а платье Микасы сделалось чёрным. Теперь она глядела с обрыва на яростное море, молитвенно сложив у груди руки в замочек, а подле неё похожий на греческую скульптуру стоял господин Дементьев.