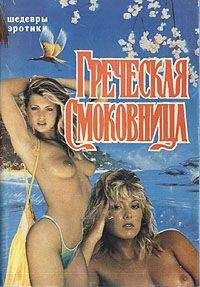внутренней поверхности бедра. Меня охватывает жгучая боль, растворенная в
накатившей волне наслаждения; я застываю
на месте, онемев: каждая частица моего тела наполняется сладострастием. Служащие
в глубине лавки побледнели. Он
осторожно одергивает мне юбку, оборачивается к пожилому продавцу, в своем
костюме похожему на счетовода. Тот стал
весь красный.
- Этот я и возьму.
ЧТО ОН ДЕЛАЛ
- Он меня кормил. Покупал продукты, готовил, мыл всю посуду.
- Утром он меня одевал, а вечером раздевал и относил мое белье вместе со
своим в прачечную. Однажды вечером,
снимая с меня туфли, он заметил, что их нужно починить, и на следующее же утро
отнес их сапожнику.
- Он без устали читал мне газеты, журналы, детективы и рассказы Кэтрин
Менсфилд, он даже читал вслух дела,
когда я приносила их домой, чтобы поработать.
- Каждые три дня он мыл мне голову. Он сушил мне волосы моим ручным
феном; только первые два раза он делал
это неловко. Однажды он купил мне очень дорогой гребень (от лондонского Кента) и
ударил меня им. Царапины от этого
гребня не заживали очень долго. Но каждый вечер он меня им причесывал. И никогда
- ни до, ни после того - мои волосы
не расчесывались так часто и тщательно, и с такой любовью. Они блестели, как
никогда раньше.
- Он покупал мне тампоны и менял их. В первый раз я совершенно обалдела,
а он сказал:
- Я же лижу тебя, когда у тебя месячные, и нам обоим это нравится. Так
какая разница?
- Каждый вечер он приготавливал мне ванну, пробуя разные соли, масла и
другие косметические средства, с
удовольствием подростка покупая мне все это в великом множестве и разнообразии,
хотя сам продолжал принимать
привычный душ с мылом или обыкновенным шампунем. Я постоянно спрашивала себя,
что думает его домработница о
кнуте, стоящем на раковине в кухне, о наручниках, которые висят на ручке двери в
столовой, о серебристых цепях,
валяющихся в углу спальни. Я пыталась представить себе, что она думает об этом
изобилии внезапно появившихся
флаконов, о девяти разных шампунях (почти нетронутых), заполнявших шкафчик в
ванной, о десяти упаковках разных
солей, выстроившихся в ряд на бортике ванны.
- Каждый вечер он снимал с моего лица косметику. Никогда не забуду
ощущения, которое я испытала, усаживаясь
в кресло закрыв глаза и запрокинув голову, а он, вооружившись кусочками ваты,
осторожно очищал мой лоб, щеки, и
особенно долго задерживался на веках.
ЧТО ДЕЛАЛА Я
- Ничего.
Он возвращается домой очень озабоченный. Один из его партнеров по теннису
сказал, что корм, который он дает
кошкам (Тендер Витлз), очень плох. По его словам, это все равно, что кормить
людей одними консервами и сладостями. Он
спрашивает меня, блестит ли их шерсть. Энди - знаток кошек! Он же знает о кошках
только то, что ему рассказала одна
женщина, с которой он расстался четыре года тому назад. У нее был сиамский кот.
Согласна, - если шерсть черной кошки
внезапно перестает блестеть, что-то неладно. Но эти-то? Они все толще и толще,
но шерсть... Боже мой, да они всегда такие
и были! А у твоих кошек шерсть блестела?
Вечером он вываливает в кошачьи миски банку куриного паштета и банку
тунца. На следующее утро он готовит им
три блюда со взбитыми яйцами: в первое добавляет немного тунца, а в третье
немного молока. Вечером, часов около шести,
он кладет им в тарелку около фунта вырезки (блюдец у него не много, а мисок
свободных больше нет).
Кошки бросаются в кухню. Но ни одна не дотрагивается до еды, которую он
им приготовил.
Ни одна даже не понюхала тарелки и миски, которыми заставлен весь пол в
кухне; по правде говоря, они обращают
на них не больше внимания, чем на пустую пачку от сигарет, брошенную на пол. В
девять часов он возвращается на кухню.
Я иду за ним. Он показывает мне кошачьи миски и белую тарелку китайского фарфора
(с золотой каймой и розовыми и
сиреневатыми цветами в середине: она ему досталась от тетки, которая ему
отказала еще и скатерть из дамасского полотна,
покрывающую обеденный стол).
- Видишь? - говорит он. - Они бы уже давно попробовали все эти прелести,
если бы им это было полезно.
Животные едят то, в чем нуждается их организм, - не так, как люди. Во всяком
случае, так сказал мне тот толстый в
магазине.
И сделав столь справедливое умозаключение, он кладет в миски банку тунца
и банку шариков из печенки и
курятины (те самые Тендер Витлз). Кошки мгновенно прибегают.
- Ну, - бурчит он, - кажется, мода на натуральную пищу действительно ушла
навек! Да здравствует Тендер Витлз!
* * *
Я стою почти на цыпочках, руки мои подняты над головой, а кисти привязаны
к крюку, на котором днем висит его
единственная картина. В комнате почти темно: горит только лампа на его бюро. Он
велел мне молчать. Хотя включен
телевизор, он целиком погружен в работу и не поднимает глаз от папок. Время
тянется и тянется. У меня начинают болеть
руки, потом все тело, и я в конце концов ему говорю:
- Послушай, я больше не могу...
Он насмешливо смотрит на меня, идет в спальню, возвращается оттуда с
двумя носовыми платками и говорит мне
вежливо и любезным тоном:
- Заткнись, пожалуйста.
Он заталкивает один платок почти целиком мне в рот, а другой обвязывает
вокруг головы.
Начались шестьдесят минут. Я пробую слушать передачу, смотрю на нижнюю
часть экрана, чтобы отвлечься и
забыть о боли, которая волнами охватывает меня. Я уговариваю себя, что мое тело
скоро онемеет, но ничего подобного:
боль становится все сильнее. К концу передачи, несмотря на платок, засунутый мне
почти в горло и прижимающий язык,
слышно, как я глухо стону. Он встает, подходит ко мне, включает лампу рядом с
бюро и поворачивает ее так, что свет слепит
меня. Первый раз со дня, когда я узнала его, я плачу. Он внимательно смотрит на
меня, выходит из комнаты и возвращается
с бутылкой ароматического масла для ванны, которое он принес сегодня, когда
пришел с работы. Он начинает натирать им
мою грудь, шею, подмышки. Сознание мое целиком поглощено конвульсивными
приступами боли. Он массирует мне
грудь; от слез мне трудно дышать носом. Теперь он втирает масло в мой живот,
медленными круговыми движениями,
ритмичными и сильными. Вдруг меня охватывает ужас: я уверена, что сейчас