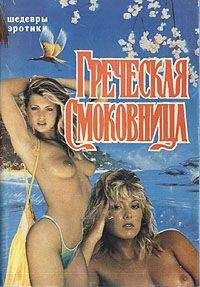задохнусь. Да, я сейчас задохнусь, я умру...
Он раздвигает мне ноги, от этого тело мое напрягается еще больше. Я вою. Но из
моего заткнутого рта доносится слабый
звук, похожий на далекий звук сирены в тумане. Первый раз за вечер он проявляет
интерес, он почти заворожен. Я вижу его
глаза совсем рядом со своими, что-то тихонько трется о мой клитор. Пальцы у него
все в масле; я по-прежнему вою, но этот
вой мало-помалу начинает перемежаться стонами, которые я издаю, когда кончаю;
впрочем, они очень похожи. И в конце
концов я кончаю.
Он отвязывает меня, берет меня стоя, потом кладет в постель и вытирает
мне лицо полотенцем, намоченным в
холодной воде. Затем долго растирает мне запястья. Перед тем, как я засыпаю, он
говорит мне:
- Завтра, лапушка, тебе придется надеть блузку с длинными рукавами. Такая
досада, ведь будет очень жарко...
* * *
Наши вечера ничем не отличались друг от друга. Он наполнял для меня
ванну, раздевал меня, надевал на меня
наручники. Пока он переодевался и готовил обед, я лежала в ванне. Когда я хотела
выйти из ванны, я звала его. Он меня
поднимал, тщательно намыливал, мыл и вытирал. Потом снимал с меня наручники и
надевал на меня одну из своих
рубашек - белую, розовую или голубую поплиновую, которые обычно носят с пиджаком
и рукава которой были мне
длинны, причем каждый вечер чистую, только что принесенную из китайской
прачечной. Потом снова надевал на меня
наручники. Я смотрела, как он готовит обед. Он был прекрасным поваром, хотя его
меню было несколько ограниченно: он
умел готовить четыре-пять блюд, после чего несколько дней кормил меня омлетами и
бифштексами, а потом повторял все
сначала. Пока он резал салат, он всегда пил вино, и поил меня из своего бокала.
Он мне рассказывал, как прошел день у него
на работе, а я ему - как у меня. Кошки терлись о мои голые ноги.
Приготовив обед, он клал еду на одну большую тарелку. Мы шли в столовую,
в которой едва помещались
обеденный стол и три стула; там был еще старый восточный ковер. Это, безусловно,
была самая веселая и яркая комната в
его квартире. Он расставлял приборы на скатерти дамасского полотна. Я,
привязанная к столу, сидела у его ног. Он вилкой
брал салат, ел его, кормил меня, время от времени вытирая мне губы, если я
пачкала их растительным маслом, прихлебывал
вино и давал выпить мне. Иногда, когда он слишком низко наклонялся, вино текло
по моему лицу, шее и груди. Тогда он
вставал на колени и слизывал вино с моих сосков.
Часто во время обеда он брал мою голову и зажимал ее между своими
ляжками. Мы изобрели игру: он хотел знать,
сколько времени он сможет есть спокойно, а я старалась заставить его как можно
скорее положить вилку и застонать. Один
раз я сказала ему, что мне особенно нравится вкус его плоти, когда за этим идут
овощи с керри. Он расхохотался и
воскликнул:
- Боже мой, да я завтра же приготовлю керри на весь остаток недели!
Когда мы кончаем есть, он идет мыть посуду и варить кофе (ужасный кофе,
всегда одинаковый), который он
приносит тотчас же в столовую: чашку, кофейник, блюдечко с сахаром и рюмку
бренди (через месяц, несмотря на всю свою
любовь к кофе, я стала пить чай). Потом он читал мне вслух или мы читали каждый
по отдельности. Когда я поднимала
глаза, он переворачивал мне страницу. Иногда мы работали или смотрели телевизор.
Но чаще всего мы целыми часами
болтали. Я никогда ни с кем столько не разговаривала. Он узнал всю историю моей
жизни, подробность за подробностью, а
я столько же узнала о нем. С первого взгляда я узнала бы его школьных друзей,
догадалась бы о настроении его начальника
по тому, как тот садится в кресло. Мне безумно нравились его шутки и его манера
произносить их, медленно, с оттенком
легкой скуки, намеренно невыразительное выражение (если так можно сказать) его
лица. Он очень любил слушать о моем
деде, а я любила, когда он рассказывал о трех годах, проведенных им в Индии.
Мы никуда не ходили, с друзьями виделись только в полдень. Много раз он
по телефону отказывался от
приглашений, при этом серьезно глядя на меня и объясняя, что он завален работой.
Я прыскала со смеху. И почти каждый
вечер я была цепью привязана к дивану или к журнальному столику рядом с ним.
* * *
Среда. Мы знакомы три недели и назначили друг другу свидание на полдень.
Это единственный раз, когда мы
завтракаем вместе в рабочий день, хотя наши конторы находятся на расстоянии
одного доллара такси. Это ресторан в
центре, шумный, как все прилегающие улицы, с лампами дневного света и толпой
народа у дверей, ждущей пока
освободится место. Мы сидим друг против друга на самом свету. Он заказывает
сэндвичи с ростбифом и вино.
Утром я одержала на работе маленькую победу: проект, который я защищала
уже несколько месяцев, наконец
принят. Я радостно ему об этом рассказываю: "Это, конечно, не Бог весть что, но
я очень этим горжусь, потому что я все
время думала, что..." Он кладет руку мне на лицо, так что большой палец наискось
прикрывает мне рот, а остальные
упираются в левую щеку.
- Я хочу, чтобы ты мне все рассказала. Но у нас еще будет для этого
время. Не закрывай рот.
Он снимает руку с моего лица и опускает большой палец в мой бокал; вино -
темно-красное в бокале - на его коже
становится прозрачным и розовым. Он смачивает мне губы. Его палец движется
медленно, при его прикосновении мышцы
моего рта расслабляются. Потом он проводит им слева направо по верхним зубам, а
затем справа налево по нижним. Его
большой палец в конце концов останавливается на моем языке. Как-то лениво, не
беспокоясь, я думаю: он все это делает
среди бела дня...
Он легонько давит мне на язык, предлагая сосать его палец. Несмотря на
вино, у него соленый вкус. Каждый раз,
как я останавливаюсь, он давит чуть сильнее; я продолжаю и, почувствовав, что
живот у меня становится влажным,
закрываю глаза.
Он вынимает палец у меня изо рта, улыбается мне и, держа руку над моей
тарелкой, говорит:
- Вытри меня.
Я заворачиваю его руку в салфетку, как будто хочу остановить кровь. И тут
внезапно снова вижу себя привязанной
к кровати, прикованной цепью к столу или умывальнику, всю в брызгах от его душа,
который шумит у меня в ушах; на
моей верхней губе выступают капельки пота, глаза закрываются, приоткрывается