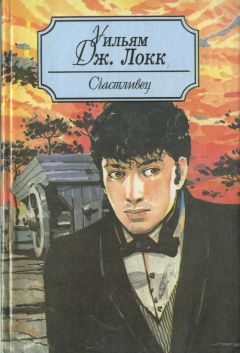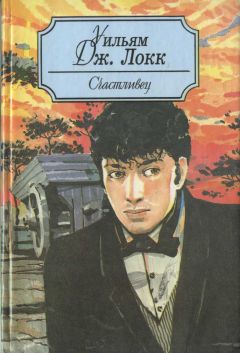Он вскочил и забегал по комнате.
— Все сразу… Я как-то не могу разобраться. Крем Сайфера, Друг человечества! Воображаю, как они скалили зубы за моей спиной, если только верили в мою искренность. Как они должны были презирать меня, если не верили и считали всего лишь шарлатаном, гоняющимся за рекламой! Зора Миддлмист, ради моего спокойствия, скажите, что вы обо мне думали? За кого вы меня принимали — за сумасшедшего или за шарлатана?
— Это вы должны рассказать мне, что случилось, — серьезно ответила Зора. — Я ничего не знаю. Септимус дал мне понять, что крем вас предал. Вы ведь знаете, у него самого в голове никогда не бывает ясности, а уж когда он начинает объяснять другому…
— Септимус удивительный — он настоящее дитя.
— Может быть, где-нибудь в другом месте он и был бы хорош, но на земле с ним иной раз довольно трудно, — улыбнулась Зора. — Что же произошло на самом деле?
Сайфер тяжело перевел дух и заговорил спокойнее.
— Я на краю банкротства. Последние два года работал себе в убыток. И все надеялся, хотя и видел, что надежды нет. И бросал тысячи и десятки тысяч в бездну. А Джебуза Джонс и другие тратили еще больше денег на рекламу, продавали еще дешевле, на каждом шагу мне вредили. И теперь весь мой капитал истрачен и денег достать неоткуда. Остается одно — идти ко дну.
— У меня довольно большое состояние… — начала было Зора, но он жестом руки остановил ее, глядя ей прямо в глаза.
— О, моя дорогая Зора! Сердце не обмануло меня тогда в Монте-Карло, подсказав мне, что вы — женщина большой души. Скажите, вы когда-нибудь верили в крем так, как верил в него я?
Зора тоже посмотрела ему в глаза и ответила так же искренне и просто, как он спрашивал:
— Нет. Не верила.
— И я уже не верю. Крем или любое шарлатанское средство, которое вы можете купить в каждой аптеке, — все равно, разницы между ними нет. Вот почему, если бы даже у меня был шанс поправить свои дела, я бы не мог взять ваши деньги. Вот почему я спросил вас, что вы обо мне думали и кем считали — безумцем или шарлатаном.
— Разве того, что я здесь, недостаточно чтобы показать вам, какого я о вас мнения?
— Простите меня. Нехорошо с моей сторон предлагать вам такие вопросы.
— Больше, чем нехорошо — не нужно.
Сайфер провел рукой по глазам и сел.
— Мне много пришлось сегодня пережить. Я, что называется, не в себе, так что вы должны простить, если я говорю то, что не нужно. Сама Фортуна послала вас ко мне в это утро, а Септимус был ее послом. Если бы не вы, я бы, наверное, в самом деле сошел с ума.
— Расскажите мне все, — ласково попросила она, — все, что захочется. Ведь, если не ошибаюсь, я ваш самый близкий друг.
— И самый дорогой.
— И вы мне дороги оба — вы и Септимус. Я перевидала сотни людей за время своей поездки, и некоторые из них как будто любили меня, но ни один не играл никакой роли в моей жизни, кроме вас двоих.
Сайфер думал: «Мы оба тоже любим тебя всей душой, а ты даже не знаешь этого». И ревниво спрашивал себя: «Кто эти люди, которые ее любили?», но вслух повторил только:
— Ни один?
С улыбкой глядя ему прямо в глаза, Зора повторила: «Ни один». Он вздохнул с облегчением. Значит, она не нашла того большого человека, о котором Раттенден говорил, что она ищет его, чтобы под жгучим солнцем его страсти распуститься пышным цветом. И в тайниках своего мужского эгоистичного сердца возблагодарил судьбу за то, что не нашла.
— Рассказывайте же, — попросила Зора.
Сайфер рассказал ей всю трагикомическую историю своих неудач — от эпизода с натертой пяткой. Поведал и то, что даже себе не говорил, — мысли и чувства, которые теперь, когда он их выразил словами, удивили его самого.
— В Галиции, — говорил он, — в каждом доме, даже в самой бедной крестьянской хате, есть священные изображения. Там их называют иконами. Вот это все, — он указал на стены, — были мои иконы. Как вы их находите?
Впервые Зора обратила внимание на обстановку комнаты, где они находились. Плакаты, рекламные листки, модель Эдинбургского дворца из красных коробочек произвели на нее то же впечатление, что и знаменитая доска в саду дома Сайфера в Нунсмере. Но тогда они могли спорить о том, насколько безвкусна такая реклама, и она считала себя вправе предписывать ему законы поведения, в качестве arbiter elegantiarum[70].
Теперь он видел все эти убогие «иконы» ее глазами и прошел через все муки ада, прежде чем достиг такой ясности зрения.
Что же могла она сказать? Зора, великолепная и самоуверенная Зора, не находила слов, хотя сердце ее разрывалось от жалости. Она вплотную приблизилась к смешной, на чужой взгляд, трагедии человеческой души, и ее скромный жизненный опыт, не мог подсказать ей, как следует себя вести. Здесь не место было разыгрывать благодетельную богиню. Зора молчала, боясь вымолвить слово, чтобы ее участие не показалось Сайферу неискренним. Она хотела ему дать так много, а могла так мало…
— Я жизни не пожалею, чтобы вам помочь, — почти жалобно проговорила она. — Но что же я могу для вас сделать?
— Зора! — хриплым голосом воскликнул он.
Она подняла на него глаза, и встретившись с его взглядом, поняла, что в ее власти ему помочь.
— Нет, не смотрите так — не надо! Я не могу этого вынести.
Она отвела от него глаза и встала.
— Не будем ничего менять. Все было так хорошо и странно: вы хотели сделать из меня какую-то жрицу своего божества. Я смеялась, но мне это нравилось.
— Потому я и говорю, что был глупцом, Зора.
Неожиданно и резко зазвонил телефон. Сайфер сердито схватил трубку.
— Как вы смеете звонить, когда я сказал, чтобы меня не беспокоили? Мне все равно, кто меня спрашивает. Я никого не желаю видеть!
Он повесил трубку. Начал было: «Я извиняюсь» — и остановился. Грубое вторжение внешнего мира напомнило ему о практической стороне жизни. Он был разорен. Мог ли он сказать Зоре Миддлмист: «Я нищий. Выходите за меня замуж»?
Она подошла к нему, протягивая обе руки, — обычный для нее инстинктивный жест в тех случаях, когда сердце ее было переполнено, — и впервые назвала его по имени:
— Клем, будем друзьями — настоящими добрыми, хорошими друзьями, но не надо портить мне радость этой дружбы.
Когда женщина, бесконечно желанная, просит о дружбе, а глаза ее сияют таким дивным светом, и сама она, милая, очаровательная, совсем близко, — мужчине остается только привлечь ее к себе и, бесчисленными поцелуями заглушив ее мольбы, с торжеством увлечь свою добычу. С тех пор как стоит мир, мужчины всегда так поступали, и Сайфер, как истый мужчина, это знал. Она подвергла его искушению, какое ему и во сне не снилось, — муке, пострашнее пещи огненной.
— Забудьте, что я вам сказал, Зора, будем друзьями, если — если вы так хотите.
Он сжал ее руку и отвернулся. Зора почувствовала, что ее победа немногого стоит.
— Мне пора… — сказала она.
— Нет. Посидите еще, побеседуем, как друзья. Я столько месяцев вас не видел и так соскучился!
Она посидела еще, и они мирно беседовали о многом. Прощаясь с ней, он сказал, полушутя — полусерьезно:
— Я часто спрашивал себя, что вас могло привлечь в таком человеке, как я.
— По всей вероятности, то, что вы большой человек, — ответила Зора.
После обеда с Зорой Септимус пошел опять в свой клуб, вдвойне благословляя судьбу: во-первых, Фортуна, в неизреченной своей милости, вернула ему благоволение его богини; во-вторых, ему удалось в разговоре с Зорой обойти вопрос о том, что они живут врозь с Эмми. В течение нескольких часов он размышлял о сложных отношениях между Зорой, Сайфером, Эмми, им самим и в конце концов совершенно запутался. Он жаждал греться в лучах своего божества, но для женатого, хотя бы формально, человека это казалось ему не слишком удобным. Его стараниями Клем Сайфер теперь тоже мог греться на том же солнышке, и Септимуса смущала мысль, что они оба будут наслаждаться таким счастьем одновременно. К тому же он опасался, что Зора не очень-то поверит в его несносный характер и придирчивость в качестве уважительных причин для того, чтобы не жить вместе со своей женой. В результате бедняга не сомкнул ночью глаз, а утром, словно кролик, забрался в свою норку в Нунсмере. Как бы то ни было, собачий хвостик сделал свое дело.
Это было в пятницу. А в субботу утром его разбудил Вигглсвик. Костюм последнего не являл собою образец костюма примерного слуги. На нем была распахнутая на груди старая цветная рубашка, панталоны, подтянутые красными подтяжками к самым плечам, и стоптанные ковровые туфли.
— Тут письмо.
— Так опустите его в ящик, — сонным голосом ответил Септимус.
— Зачем же опускать? Это не вы писали, а миссис. Марка французская, а штемпель парижский. Вы бы лучше прочли.