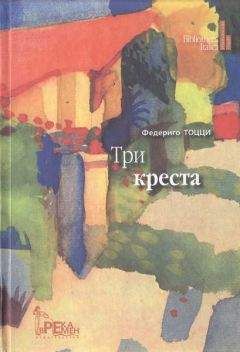Та набрала и поставила кувшин на край колодца, а колодезная цепь все качалась и качалась.
Все засмотрелись на нее, потом по очереди напились и помакали в воду ломти черствого хлеба.
Разбредясь по двору, они обсуждали полевые работы и зорко поглядывали, не возвращается ли хозяин, ушедший проведать коров.
Пьетро сидел с батраками, ему забавно было смотреть, как они жуют. Некоторые, чтобы крошки не пропадали зря, запрокидывали голову и высыпали их с ладони в рот.
Карло был мужчина полный и крепкий, хотя каждую зиму его мучили боли в ногах. Его холщовая рубаха была всегда самой чистой. Правда, от него воняло навозом, а изо рта шибало луком и чесноком, до которых он был большой охотник. Откусив хлеба, он всякий раз разглядывал на краюхе следы зубов.
Коновал относился к нему с особым почтением и, прежде чем уйти, показал ему собранную выручку:
— Видал? Монетки, прямо как люди: одна другой рознь. Эту сплющили молотком так, что теперь едва признаешь. Вот эта, гнутая — вроде хромого. А эту пытались продырявить — это как если б ты всадил в кого нож или кто-то в тебя. А эта так истерлась, что теперь вдвое легче — это бедняк вроде меня, ее-то я и пропью в первую очередь, чтоб на мысли не наводила. Ну, бывай.
Он сплюнул и выругался.
Карло едва удостоил его ответом. И, когда собеседник отошел и не мог уже его слышать, произнес:
— На мой хлеб рот раззявил. Да не тут-то было.
И взглянул в сторону дома, где стоял еще открытым мучной ларь.
Прошло еще три года, Пьетро получил аттестат. Вернувшись-таки в школу, куда его отпустили после долгих споров и с большими сомнениями, он всерьез взялся за учебу.
Все свободное время он проводил с товарищами, и Доменико даже разрешал им заходить за Пьетро в трактир.
Тогда же он начал ходить по женщинам. Делал он это тайком, и чтобы раздобыть денег, продавал книги и кое-какие вещицы, которые удавалось вынести из дома незаметно от Доменико: майоликовый сервиз, несколько подвесок из хороших камней и даже старинный шелковый веер с ручкой из слоновой кости. Потом он клал ключи на место: под круглую шерстяную салфетку, служившую подстилкой под лампу.
Один из поденщиков, работавших в Поджо-а-Мели, влюбился в Ребекку и намекнул, что не прочь был бы на ней жениться. Рози, который еще раньше вызвал из той же Радды еще одну племянницу Ребекки, кузину Гизолы, решил дать на это согласие и поставить на место тетки племянницу. Он дал за ней приданое, оплатил большую часть расходов и вдобавок взял мужа официантом.
После смерти Анны Ребекка по-прежнему была у хозяина на хорошем счету, но Розаура, племянница, вскоре ее вытеснила. И вплоть до самой свадьбы тетя с племянницей постоянно цапались, даже в трактире — к ужасу Джакко и Мазы, боявшихся лишиться на старости лет куска хлеба.
Маза теперь все чаще отдыхала, но при этом пряталась, чтобы ее не уволили. Тем более что хозяина она знала лучше других и не слишком на него рассчитывала. Усевшись, она задирала юбку, скатывала белые хлопковые чулки и скребла нещадно болевшие ноги.
Ее товарки, получавшие наравне с ней, все это замечали — и потому завидовали ей по-черному и за глаза называли воровкой. Однако старались к ней подольститься и всегда покрывали.
Действительно, Доменико благоволил к ней по-прежнему, ведь она сообщала ему обо всем, что творилось в поместье.
Но Джакко уже не просил у Пьетро бычков. Мало того, он вбил себе в голову, что барчук на него зол, и дошел до прямых жалоб хозяину, уверяя, что если б не он, несчастный, жалкий старикашка, в Поджо-а-Мели при попустительстве его сынка даже гумно растащили бы на кирпичи.
— Без понятия парень! С вашего позволения… уж простите за прямоту! А на меня-то он что взъелся?
Доменико вяло разубеждал его, не особо стараясь — на то был свой расчет. Тогда старик, приняв скорбный и обиженный вид человека, которого вынудили на откровенность, тут же умолкал.
Иной раз он бил на жалость: хлопнув шляпой об колено, кричал, намекая на Пьетро:
— Бедный я, несчастный!
Но больше не выходил работать вместе со всеми, а занимался лишь тем, что раньше входило в обязанности внучки. Ноги у него скрючились так, что колени задевали друг за друга, и от этого казались короче — как перепутавшиеся веревки двух соседних колоколов.
Говоря, он с трудом поднимал свою большую голову, плохо державшуюся на съежившихся, сутулых плечах. Его неподвижное, неживое лицо будто растрескалось на солнце, и в морщинки набивались жир и грязь. Висячие всклокоченные усы, похожие скорее на шерсть, закрывали рот. Слизистая глаз пожелтела и загрубела.
Прежде чем за что-нибудь взяться, он, собираясь с мыслями, почесывал за ушами, приподняв другой рукой шляпу.
Молодого хозяина, когда тот проходил мимо, он хватал за рукав и спрашивал:
— Больше со мной не разговариваете?
Пьетро и впрямь его избегал — ему претило двурушничество Джакко, ясно дававшее понять, что на самом деле он ставит себя выше барчука.
Уцепившись за рукав, Джакко твердил с неприязнью, которой тщетно пытался придать вид сердечности:
— А я ведь вас еще маленьким помню, на коленях вас держал… Сердитесь вы на меня, что ли?
И чтобы разговор прошел не совсем впустую, пытался вызвать у Пьетро улыбку. Но тут же заводил снова — мрачно, с досадой, едва ли не упрашивая:
— За что вы меня невзлюбили?
Пьетро не знал, что сказать. Ему приятно было видеть, как Джакко перед ним лебезит.
— А я ведь всегда работал на совесть, спросите отца. И так и будет, пока Господь меня не приберет.
И в голосе его слышался вызов.
Эта неестественная настойчивость отталкивала юношу.
Старик пристально смотрел ему в лицо. Пьетро, робко на него покосившись, пытался высвободить руку.
Джакко силился улыбнуться, но выражение лица Пьетро отбивало у него всю охоту. А Пьетро чувствовал облегчение: теперь можно было просто уйти.
Как-то раз он спросил Джакко:
— А что Гизола?
Батрак весь встрепенулся, почуяв средство вернуть себе благоволение молодого хозяина, однако не решаясь им воспользоваться.
— Давненько вы о ней не вспоминали!
— Да где она?
Джакко столько всего хотелось сказать, и вместо того, чтобы ответить сразу, он почесал грудь. Сквозь прореху на рубахе виднелись темные соски с длинными волосками и раздутыми порами. Засаленный, пропотевший шнурок, на котором висел мешочек с образками, врезался в шею, оставляя отметину.
— В Радде, надо думать, — отвечал он негромко. И показал серпом на холмы Кьянти.
— Два месяца назад нам писала… Вон, видите? Радда — вон там.
— А письмо еще у вас?
— Старуха моя взяла. Наверно, у нее и хранится. Надеюсь! Черт возьми, не могла ж она его выкинуть!
Но говорил таким тоном, чтобы вселить неуверенность.
— Зачем же выкидывать? — спросил Пьетро. — Если вы ее любите, письмо должно быть у вас. Я хочу посмотреть.
Он говорил так, будто отстаивал какое-то право. Его враждебность к старику еще усилилась. А тот, озадаченный и заинтригованный, добавил:
— И кое-что еще она прислала.
И подмигнул.
— Что же? Небось, свою фотографию?
Джакко положил ему руку на плечо и тут же отдернул:
— Кто вам сказал?
— А что, не так? Отвечайте.
Джакко, лучась весельем, настроился на длинный разговор и, прислонясь к оливе, воскликнул:
— Точно!
Он смахивал на черепаху, которая, убедившись, что угроза миновала, начинает шевелиться.
Пьетро развернулся и, не говоря ни слова, в полном восторге зашагал к его дому. До Радды казалось рукой подать!
Слабо золотились колосья пшеницы, согнутые дождем и ветром в три погибели. Стебли были перепутаны и частью поломаны.
— Стойте, послушайте… — кричал вслед ему Джакко.
Маза сидела на пороге комнаты и вытирала тарелки.
— Ваш муж сказал, что у вас письмо Гизолы. Верно?
Старушка, которая много раз уже думала попросить кого-нибудь прочесть ей письмо, честно подтвердила. И после спросила:
— Это он сам вам сказал?
— А вы не хотели?
Он не стал ждать, пока она встанет, и вошел в комнату, перешагнув через Мазу, которой пришлось нагнуться пониже. Маза нравилась ему больше, но она точно так же, как и Джакко, наговаривала на Пьетро хозяину.
— Я сейчас! Не ищите в комоде — не найдете.
Пьетро вспыхнул и сказал только:
— Поторопитесь. Глупая вы женщина. Не понимаете моего к вам отношения.
Он боялся, что вот-вот появится Джакко, а при нем он говорить не мог. Временами взгляд старика вызывал в нем недоверие, а то и опаску.
Маза отыскала письмо и, прижимая его рукой к впалой груди, прежде чем отдать, предупредила:
— Только чтобы хозяин не узнал.
— Почему? И кто ему скажет?
— Почему — вы лучше меня знаете, — отвечала она, покраснев.