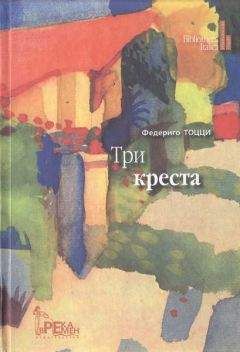— Эй, хозяин, вон еще солому везут! — крикнул один из двух мужчин, только что разгрузивших первую партию.
— Целый стог! — прокричал человек с веревкой, помогавший тянуть повозку.
— Тонна, не меньше! — добавил Паллокола, державший оглобли.
Трактирщик улыбнулся такому бахвальству. Он подошел к новой кипе соломы, пощупал ее и понюхал. Потом, ничего не говоря, посмотрел тем двоим в глаза.
На маленькой площадке, куда выходила дверь кухни, стояли еще двое мужчин, усталые и потные. Они только что перетаскали свою солому в сарай, сложив ее вровень с притолокой. Теперь они отдыхали, сидя на корточках и привалившись спиною к стене. Капли пота падали со лба на носки пыльных ботинок, кожа на которых вспучилась складками.
— Сколько просите? — спросил трактирщик, заложив большие пальцы в карманы жилета. На тыльной стороне одной руки была царапина, она кровоточила, и он частенько ее посасывал.
— Сколько дадите? Нам тоже кушать нужно, — отвечал Чеккаччо.
— Эти чертовы крестьяне даром своего не уступят. Мы уже загибаемся.
Эти соломщики разъезжали от одного поместья к другому, появляясь в часы молотьбы, так что каждый из крестьян без возражений отдавал им охапку соломы, лишь бы от них отделаться. Никто им не отказывал — из страха, что, обозлившись, они украдут потом намного больше.
Они и впрямь кормились не столько трудом, сколько воровством, и постоянного занятия у них не было.
Доменико закупал у них вполцены для хлева при трактире огромное количество соломы, так что ее хватало до следующего года.
— Считать будем по весу или на глаз? — спросил Доменико, вынув руки из карманов жилета.
— Как скажете. Нас и так, и так устроит.
Пипи и Носсе, уже договорившиеся с хозяином, перебили:
— Нас сперва отпустите. Рассчитайтесь.
Оба были молоды. Пипи — с огромной раздутой головой и широким лбом. Его голубые, в цвет неба глаза смотрели ласково, как у ребенка. Носсе был черноусый, а маленькие жгучие глазки только что не кусались.
— Сперва и эту солому поможете поднять.
— Если нальете! — ответил со смехом Пипи и плюнул на стену.
— У меня в горле першит! — сказал Носсе. И, опершись на стену, поднялся.
Доменико усмехнулся в знак согласия.
Он разменял уже шестой десяток. Руки с длинными и узкими выпуклыми ногтями побледнели, на них проступили сизо-лиловые вены.
Брился он теперь еще реже, щетина была светлая, почти седая. Глаза поблескивали, как устричные раковины, но во вспухших уголках век появились две багровые ниточки. Волосы поредели, хоть он и смачивал их собственного изобретения водой из ягод можжевельника. По бокам доброго рта спускались всклокоченные усы. Плечи порядком ссутулились, так что спина казалась больше, но он гордился тем, что все такой же силач и весит сто кило с лишним. Ему казалось, его руки и шея налиты необоримой силой, которую стоит хранить на будущее и пользоваться по мере надобности.
— Так что, по весу? — спросил Чеккаччо.
— Ста килограмм тут не будет, — заметил трактирщик.
— Да вы что! — завопил Чеккаччо. — Тут все сто пятьдесят!
— Мы люди честные! — добавил Паллокола. И выругался.
Но оба кинулись развязывать веревки, чтобы снять солому с повозки. Доменико подошел, взялся за бечеву и, присев, приподнял кипу.
— Дам вам четыре лиры. Она и того не стоит.
— Мы ее украли, а, Чеккаччо?
Все рассмеялись. Потом поднялся галдеж и ругань.
— Ну все, рассчитайтесь, да мы пойдем.
— А пить вы уже раздумали? — спросил конюх, который стоял, скучая, наверху, высунувшись из окна сарая.
— Нет-нет. Мы устали. Мы больше разгружать не можем.
— Глядите, какие мышцы, — сказал Пипи, взяв за руку Доменико. Рукава его рубахи были засучены по локоть.
— Такими-то руками! — воскликнул Носсе.
— Живее, ребята, — сказал Чеккаччо.
Сквозь приоткрытые ворота видна была улица. Мимо прошла девушка. Чеккаччо свистнул ей, подзывая.
— Смотри, сейчас придет, — сказал Пипи.
— Вы чего сюда явились? — спросил трактирщик. — Болтать?
— А что еще делать?
И приятель Чеккаччо уселся на солому, сложив руки на коленях.
— Что, уже не торопитесь?
— Верно, торопимся. Рассчитайтесь.
— Вот вам шесть лир. И убирайтесь!
Пипи и Носсе выкатили свою повозку.
— Теперь наша очередь.
— Ну что, сколько платите?
— Давайте взвесим.
Они подняли шест и зацепили за него крючок весов, на который накинули петлей веревку.
— Вешайте хорошенько, хозяин!
— А ты коленкой не дави.
— Я? Да смотрите: тут рука пройдет.
Удерживая шест на плече, Паллоколла поднял руки над головой, весь дрожа от натуги.
Соломы было сто килограммов. Ее сосчитали и увязали в большой пук, чтобы поднять наверх при помощи блока.
— Вы тоже тянуть будете, хозяин?
— И посильней тебя, у меня руки крепче.
И все вместе ухватились за веревку, свисавшую с подвешенного высоко блока. Доменико намотал ее на запястье. Кипа двинулась вверх, деревянный блок заскрипел, и на стоявших внизу посыпалась пыль и солома. Конюх стоял, высунувшись из проема и вытянув руку. Поднимавшие, выдохнув, наклонялись все разом, кипа над их головами раскачивалась. Потом, подхваченная конюхом, вошла в окно и пропала в тени.
— Готово! — сказал Чеккаччо, отряхивая ворот, в котором застряли соломинки. Но руки у него болели, как оторванные.
Трактирщик, что-то заподозрив, направился к груде битых кирпичей и железного лома.
— Здесь лежал старый замок, — сказал он. — Кто его взял?
Оба соломщика переглянулись и продолжали сматывать веревки.
— Ребята, кто взял замок? — снова спросил Доменико, побелев.
— Ну уж не я, — спокойно ответил Чеккаччо.
— Я на тебя не говорю. Я говорю, что замок унесли.
— А мы тут при чем? — спросил Паллоколла со злостью и возмущением.
— Небось Пипи взял! Он ими торгует! — заметил Чеккаччо, посмеиваясь.
— Вот уж не знаю. Но если б знал, заставил бы вернуть. За такое по головке не гладят.
Оба соломщика забеспокоились, поскольку каждый в свою очередь боялся, что другой — вор. Но Паллокола все же крикнул:
— Обыщите нас!
— Не буду я никого обыскивать! Вот вам деньги. Но солому я у вас больше не куплю!
— Мы тут ни при чем!
Доменико убедился, что виновного не найти и решил, что все четверо сговорились. И, махнув им рукой, чтобы убирались, вернулся в трактир. Там он снова ухватил Пьетро за шиворот:
— Если бы ты меня слушал да присматривал, ничего бы у тебя не утащили.
Пьетро пожал плечами и подумал: они украли по бедности. И отошел с беспокойством, охватывавшим его всякий раз, когда отец готов был его ударить. Доменико и впрямь чуть на него не кинулся, но Розаура его удержала.
Замок взял накануне захожий попрошайка.
Вечером эти люди, умаявшись за день и заморив червячка в каком-нибудь монастыре, засыпали пьяные в кабаке, и Пипи с женой тоже.
Когда Рози стал хозяином «Серебряной рыбки», вход был один — с улицы Дей Росси. Из стены торчала, как флюгер, железная вывеска, на которой как с одной стороны, так и с другой была нарисована рыба. Над дверью — барельеф Мадонны пятнадцатого века. Там висел еще светильник, но веревки, чтобы спускать его вниз, уже не было.
Потом были открыты два входа с улицы Кавур. У одного из них, за стеклянной дверью, стояла двухэтажная витрина, застеленная бумагой, которую каждую неделю меняли, и заваленная ощипанными курами, жареным мясом и прочими вкусными вещами.
За входом с Дей Росси шли ворота, через которые можно было попасть во внутренний дворик, вечно забитый повозками и разным деревянным хламом. К нему примыкал хлев, вмещавший до тридцати голов скота. Над хлевом был сарай.
По субботам Доменико раздавал нищим не съеденный посетителями хлеб.
На узкой улице Дей Росси, в самом ее начале, у старого входа в трактир еще за час начинали толпиться нищие. Среди них была и жена Пипи — еще молодая, но такая желтая и высохшая, что рот смотрелся, как безгубая прорезь. Шла она так, будто шея у нее вообще не гнулась, и за пазухой плохо застегнутой рубахи то и дело проглядывала пустая, плоская грудь.
Была там одна старуха с огромным лиловым носом, в соломенной шляпке, как у крестьянок — соломенные жгуты по краям расплетались, и шляпка оборот за оборотом становилась все меньше. Она требовала, чтобы ей подавали первой, и не уходила, пока весь хлеб не был роздан. Иногда кричала:
— Вон той старой карге больше досталось.
И вновь, зажав палку под мышкой, разводила края платка, куда был ссыпан черствый хлеб.
Была одна нищенка, которой Доменико подавал трижды в неделю — крупная женщина с равномерно румяным лицом, напоминавшим тонкую неснимаемую маску из красной кожи. Зимой и летом она носила черный шерстяной платок, завязанный на спине узлом. Бледные руки постоянно скрещены на груди. Ее высокая, славная дочка ходила повсюду с ней, просунув руку ей под локоть — она была дурочка и без конца улыбалась, по ласковой, живой улыбкой.