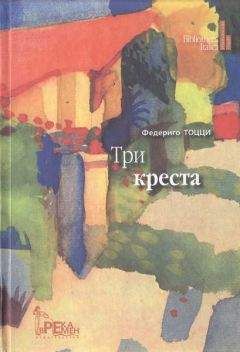Обе размашисто шагали чуть не впритирку к стене, будто убегали от кого-то. А переходя через улицу, еще прибавляли шаг.
Когда они ели суп где-нибудь в монастыре, дочь поворачивалась ко всем спиной и, вынимая изо рта ложку, заходилась беззвучным смехом.
После смерти матери ее отправили в сумасшедший дом.
Был слепой, бранивший на чем свет стоит сухорукого сына, у которого на руке не хватало пальца:
— Никакой от тебя, подлец, помощи. Будешь так стенку отирать — вообще хлеба не получим. Подлец! Подлец!
И, приложив к уху руку, напряженно вслушивался, пытаясь понять, сколько осталось хлеба — голос при этом был точно такой же, каким он читал молитвы.
Все остальные бедняки уже сбежались к Розауре, как куры к отскочившему кукурузному зернышку.
Паренек слушал отца, колупая пальцем швы между кирпичами: он предпочитал подойти последним, чтобы без ругани получить то, что Розаура наверняка для него оставит.
Нищенки рассматривали доставшийся хлеб. Кто-нибудь пристраивал в щель в стене возле входа совсем уж черствый кусок. Тогда Розаура, высунувшись из двери, кричала:
— Вы посмотрите на нее: ходит милостыню просить, а потом бросает.
Кто-нибудь из женщин подхватывал, крепко уперев руки в боки:
— Если б дали мне, я бы съела!
Кто-то, засмеявшись, вонзал зубы в хлеб, помусолив его в грязных руках. Вдруг тихий, невнятный ропот перерастал в перебранку:
— Ходит тут хлеб клянчит, а у самой денег куры не клюют.
— Тебе что за дело? Это у меня-то?.. Да не слушайте ее.
— Молчите, — перебивала Розаура. — А то в другой раз не дадим.
Другая женщина, чье лицо, изъеденное экземой, было замотано голубым платком, завязанным узлом на затылке, подхватывала:
— И правильно. Вот я, например, никогда не жаловалась.
Видны были лишь воспаленные, как две язвы, глаза — они с трудом открывались, так что приходилось ей смотреть искоса, запрокинув голову набок. Когда она говорила, повязка ходила ходуном в такт движениям рта. И какой это был рот!
Старик, появлявшийся обычно, когда все уже раздали, жалобно канючил:
— Ради Христа Бога… и мне кусочек.
— Больше нету. Почему вы так поздно?
— Ноги уже не держат!
И стучал палкой по приступку.
— А чтобы прийти сейчас, значит, держат! — язвила Розаура и уходила, ничего не дав.
Тогда он долго еще ждал, зло и упорно:
— Госпожа хорошая, но надо меня так мучить!
Всю жизнь он проработал. И мечтал, как о несбыточной роскоши, что когда заболеет, пойдет в больницу и будет там валяться на кровати целый день. И есть досыта!
Хорошо хоть жена умерла молодой, отмучилась! Но под конец он стал считать, что подавать ему обязаны, а сгонять его с приступка, где он уселся, никто не имеет права.
Доменико так больше и не женился, хотя частенько об этом подумывал и с силой скреб ногтями плохо выбритый подбородок, сгребая кожу на шее в кулак, а после хлопал наотмашь костяшками пальцев, но тихонько, чтобы не ссадить кожу. Всякий раз, отбушевав, он в запальчивости объявлял о своей женитьбе — назло. И рассчитывая, что Пьетро, не желая видеть в доме мачеху, займется, наконец, делом, твердил ему:
— Вот тебе бы жениться! А ты, дурак, в социалисты пошел! И не стыдно?
Шляпу он покупал раз в год и носил, не снимая, пока поля, отгибавшие уши книзу, совсем не засаливались. Рубашки ему нравилось носить, не снимая недели по две самое меньшее, и он чертыхался, когда надо было решиться заказать новые. Инстинктивное желание удержаться на достигнутом уровне вынуждало его экономить на чем только можно и нельзя, впрочем, он этого и не скрывал — наоборот, говорил гордо, и это была чистая правда:
— Я человек порядочный: деньги заработал своим трудом и потом и не хочу их разбазаривать.
В деревянной плошке, где лежали медные монеты, он хранил на счастье маленький металлический образок, который нашли батраки, когда копали землю. Когда он брал его в руки, то, чтобы лучше рассмотреть, каждый раз надевал очки.
Образок ему нравился — металл был мягкий и, если поскрести его ногтем, блестел, как новый. Когда, обыскав весь дом, приносили ему очки, он садился и протирал их грязным и вонючим красным платком:
— Не разберу!
И выходил, чтобы показать образок сперва бакалейщику, потом лавочнику и парикмахеру — ближайшим своим друзьям.
Но даже они, разумеется, не знали, что там изображено.
Иногда он стоял без шляпы в дверях, прислонясь к косяку, и здоровался со всеми подряд — даже с теми, кого едва знал.
Летом он велел принести стул. И подремывал, пока кто-нибудь, проходя, не будил его, хлопнув по ляжке. Тогда, очнувшись, он говорил:
— Задремал чего-то.
И чтобы встряхнуться, уходил о чем-нибудь распорядиться.
За день он успевая проглотить все подгнившие фрукты — и кричал чернявому повару с падавшим на глаза чубом:
— Принеси сковородку!
Снимал пробу и тычком в плечо отправлял повара обратно:
— Мало перца положил. Когда ж ты научишься?
Получивший нагоняй недовольно хмурился и еле заметно пожимал плечом.
— Неси другую сковородку.
Тот послушно нес и потом стоял прямо, не сводя с него глаз, одна рука на столе.
Доменико кричал ему, не успев прожевать:
— Чеснок подгорел.
Тщательно вытирал усы салфеткой и выносил вердикт:
— С тебя надо либо глаз не спускать, либо уж рассчитать. Перевелись настоящие люди.
По утрам он подъедал из судков вчерашние остатки.
Но вина выпивал почти целую бутыль и рыгал в платок, отвернувшись к стенке. Запахи его раззадоривали, он становился говорлив и время, проведенное не на кухне, считал потраченным зря — за исключением поездок в Поджо-а-Мели.
Пьетро удалось поступить в техническое училище во Флоренции после того, как он частным образом, почти самостоятельно, прошел в Сиене первый курс. Но родственные отношения между отцом и сыном распались совершенно. Все больше напоминали они двух чужаков, живущих поневоле под одной крышей, и Доменико уже даже не пытался как-то повлиять на сына — в надежде, что это пробудит в нем совесть. Хотя теперь он бы, конечно, его не простил. Был месяц, когда Доменико удавалось обращать все в шутку и оба обменивались колкостями, перераставшими порой в перебранку.
Пьетро был по-прежнему социалист, но рабочим теперь проповедовал реже. Ему было стыдно, что ему уже двадцать, а он так отстал в учебе, и это его угнетало.
Во Флоренции он снял комнату на улице Чимабуэ, а есть ходил в трактир неподалеку.
Долгими часами он сидел, обхватив голову руками, и представлял себя за учебой — в тревоге, по которой разбегались во все стороны и скрещивались линии тоски и печали, будто прочерченные по угольнику.
Изо всех сил он пытался вызвать в себе чувство, что все идет как надо, и полюбить училище, но дни были настолько разделены, оторваны друг от друга, что он совсем падал духом. Наступал новый день, и он уже не в состоянии был ни вспомнить, ни уразуметь предыдущего, и ему трудно было думать о днях грядущих.
И даже теперь, при всем своем старании, он учился хуже, чем ему хотелось бы, и поэтому занимался все меньше!
Под окном его комнаты проходила стена женского монастыря, в сад которого почти сразу после полудня высыпала сотня девочек, они пели и резвились. Какую тоску навевал их гомон! К тому же он ненавидел монашек!
Когда девочки подбегали к ближнему углу сада, он горько усмехался в надежде, что его заметят. Но они его даже не видели, и тогда его досада переходила и на них.
Зато шум города не проникал к нему совершенно, поскольку длинная монастырская стена, шедшая перпендикулярно стене дома, упиралась в огромное строение, которое загораживало почти всю площадь Беккария. Другие дома, хоть и пониже, но рассыпавшиеся почти полукругом, полностью закрывали обзор.
Ему все время было не по себе, в этом было что-то необъяснимое. С друзьями он был скрытен, и сам же от этого страдал. Все его томило, и купол Санта-Мария-дель-Фьоре в вечной дымке в конце улицы Дей Серви, который он видел на обратном пути в школу, когда выходил на пять минут на площадь Аннунциата погреться на солнышке, вселял в него бессильную тоску, которая усиливалась, если вдруг звонил колокол.
День клонился к вечеру, и все эти далекие, приглушенные звуки будили одно желание — сбежать. Как будто сам воздух прислушивался — прозрачный воздух, внушавший ему какую-то робость и страх.
Когда он шел ужинать, начинало темнеть, и цирковые балаганчики в тени деревьев на площади Беккария слепили глаза светом ацетиленовых фонарей, а карусель все кружилась и кружилась, и звучал органчик.
Он видел улицы Гибеллина и Дель-Аньоло — узкие, со сходящимися вместе домами. Другие улицы, со стороны Баррьера Аретина, шли прямо к деревьям и полям и перед ними обрывались.